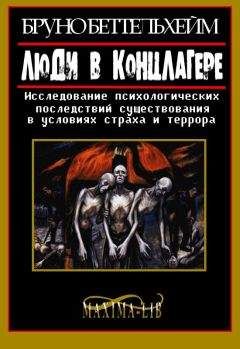Если кровать заключенного не была в абсолютном порядке, он жестоко наказывался; если недостатки находились у нескольких — страдало все подразделение. Многим заключенным, так и не научившимся застилать свою кровать, приходилось каждый день платить деньгами, работой или пищей тем, кто соглашался это делать за них.
Подобный способ давления был еще одним средством заставить человека действовать с механической аккуратностью автомата, соревнуясь с другими в скорости и эффективности. Он не позволял человеку делать хоть что-то в соответствии со своим внутренним ритмом и желанием. Все регулировалось извне так, чтобы не допустить какой-либо самостоятельности со стороны заключенного.
Мыться несколько лишних минут значило обычно не успеть почистить зубы, выпить утренний кофе или сходить в туалет. Вторая попытка застелить постель, при неудачной первой, могла быть сделана только за счет умывания и кофе.
Заключенным разрешалось пользоваться туалетом и умывальной комнатой только первые полчаса после подъема. Позже, обычно до вечера, они уже не имели возможности сходить в туалет. И было абсолютно необходимо облегчиться до выхода из барака. В среднем 6–8 открытых уборных приходилось на 100–200 человек, в условиях лагеря страдающих, как правило, расстройством пищеварения. Заключенные, едва кончившие воевать друг с другом по поводу уборки кроватей, набрасывались на тех, кто, как им казалось, слишком долго сидел в туалете. Наблюдение друг за другом в такой ситуации тоже явно не способствовало взаимному расположению.
Так начинался любой день. Борьба каждого заключенного со всеми остальными возникала еще до восхода солнца, до появления в лагере охраны. Даже отсутствующая, невидимая СС уже сеяла вражду в массе людей, неспособных преодолеть свою злость и разрушаемых этой неспособностью.
Мишени для злости
Направлять свою агрессивность на тех, кто на самом деле ее вызывал, — СС и начальников-заключенных — в лагере равносильно самоубийству. Следовало искать другой выход. Некоторые заключенные винили во всем внешние обстоятельства. Но это приносило мало облегчения, так как внешний мир был недосягаем.
Оставались лишь окружающие — товарищи по несчастью. Но круг общения был столь ограничен, что каждый раз злоба, направленная на кого-либо из окружения, порождала ответную агрессию, которую в свою очередь нужно было как-то разряжать. Вдобавок обычно возникало и чувство вины, так как каждый понимал, что другие заключенные страдают не меньше. Для того чтобы сублимировать копившуюся враждебность или как-то трансформировать ее, не было сил. Ее можно было подавлять, и некоторые заключенные пытались это делать. Но и подавление требовало слишком много эмоциональной энергии и решимости. Даже если они в какой-то момент и появлялись, то быстро уходили на новые вспышки злости и раздражения.
Эта постоянно возникавшая потребность разрядить напряженность может частично объяснить ожесточенность заключенных по отношению друг к другу: внутрилагерную борьбу между различными группами, жестокость к шпионам, рукоприкладство начальников-заключенных.
Был только один более или менее открытый выход: агрессивность по отношению к членам меньшинств. Сначала к ним относили только заключенных-евреев, позже людей и других национальностей. Они не могли ответить на агрессию контрагрессией, так как их положение было много хуже.
Заключенные-немцы, которые не могли не видеть действительного положения вещей, оправдывали свое поведение, принимая расистские взгляды.
Проекция
Агрессивность по отношению к меньшинствам все же не бьйа выходом для всех заключенных. Одни сами принадлежали к таким группам, другие не могли считать ее правомерной ни для СС, ни для себя. Им оставалось экстраполировать свою агрессивность, перенося ее на эсэсовцев. Это в какой-то степени уменьшало их ненависть и, в то же время, защищало от прямых агрессивных действий по отношению к врагу, чью, как казалось, сверхъестественную силу они постоянно чувствовали на себе.
Заключенным было необходимо считать СС всемогущей, чтобы сдерживать себя.
Реальная проверка могла бы разрушить эту иллюзию, но ее нужно было избегать любой ценой, так как любая попытка угрожала жизни. Все эти противоречия и сложное взаимодействие внутренних конструкций с реальностью почти неизбежно приводили к каким-то нарушениям психики. Система защиты строилась на инфантильных чувствах страха и ярости — реакции заключенного на то, что его заставляют быть инфантильным. Эти чувства переносились на абстрактных эсэсовцев. И вся система защиты противостояла реальному, ничем не ограниченному могуществу СС. Реальная беспомощность, необходимость блокировать любые порывы отомстить, потребность сохранить самооценку — эти чувства лежали в основе создания образа палача.
Многие, прошедшие школу дискриминации, замечали: жертва часто реагирует столь же неправильно, сколь и агрессор. На это обращают обычно меньше внимания, потому что, во-первых, защищающегося легче оправдать, чем обидчика, и, во-вторых, допуская, что реакция жертвы прекращается вместе с агрессией. Вряд ли такой подход помогает преследуемому. Конечно, главное для него — прекратить преследование. Но именно это маловероятно, если он не поймет самого феномена преследования, не поймет, насколько тесно психологически связаны жертва и палач.
Позвольте привести в качестве иллюстрации следующий пример. В 1938 году польский еврей убил фон Рата — немецкого атташе в Париже. Гестапо, воспользовавшись этим событием, усилило репрессии против евреев, в частности, появился приказ, запрещающий в концлагерях оказывать евреям медицинскую помощь во всех случаях, кроме производственных травм.
Почти каждый заключенный страдал от обморожений, которые часто приводили к гангрене, а затем и к ампутации. Чтобы избежать этого, нужно было обратиться в лазарет, допуск в который зависел от прихоти особого эсэсовца.
У входа заключенный объяснял характер своего заболевания этому эсэсовцу, который решал, лечить его или нет.
Я тоже был обморожен. Сначала я не пробовал добиваться медицинской помощи, зная, что другие заключенные-евреи получали оскорбления вместо лечения. В конце концов дела стали плохи, дальнейшее промедление могло привести к ампутации. Я решил попытаться.
Около лазарета я увидел довольно большую группу заключенных, в том числе и евреев с сильными обморожениями. Обсуждались главным образом шансы попасть в лазарет. Почти все евреи детально планировали свой разговор с эсэсовцем.
Кто-то хотел сделать акцент на своей службе в армии во время первой мировой войны, на полученных ранах и знаках отличия. Другие собирались продемонстрировать тяжесть обморожения или рассказать какую-нибудь небылицу.
Большинство, похоже, было убеждено, что эсэсовец не поймет их ухищрений.
Спросили и о моих планах. Не имея ничего определенного, я сказал, что буду действовать, исходя из того, как обойдется эсэсовец с другими заключенными-евреями с обморожениями, подобными моим. Я усомнился, правильно ли вообще следовать заранее составленному плану, ведь трудно предвидеть реакцию незнакомого человека.
Заключенные реагировали на мои слова так же, как и раньше в подобных случаях. Они стали настаивать на том, что все эсэсовцы похожи друг на друга — злобные и глупые. В соответствующих выражениях меня обругали за нежелание поделиться своим планом или воспользоваться чужим. Их злило, что я собирался встретить врага без подготовки.
Ни один из людей, стоявших впереди меня, не был допущен в лазарет. Чем больше заключенный упрашивал, тем раздраженнее и злее становился эсэсовец.
Проявления боли доставляли ему удовольствие, истории о предыдущих заслугах перед Германией раздражали. Он высокомерно заметил, что его евреи не проведут, и что прошло, к счастью, то время, когда евреи могли чего-либо добиться своими жалобами.
Когда подошла моя очередь, он рявкнул: «Единственная причина допуска евреев в лазарет — травма на работе, знаешь ли ты это?» Я ответил: «Да, я знаю правила, но не могу работать, пока мои руки покрыты омертвевшими тканями. Так как ножи нам иметь не полагается, я прошу их срезать». Я старался говорить сухо, избегая при этом заинтересованности или высокомерия.
Эсэсовец ответил: «Если это все, что ты хочешь, я сделаю сам». И он начал тянуть за гноящуюся кожу. Но она не отходила так легко, как он, вероятно, ожидал, и, в конце концов, он махнул мне, чтобы я зашел в лазарет.
Внутри он бросил на меня злорадный взгляд, втолкнул в комнату и велел заключенному-санитару обработать рану. Во время процедуры охранник пристально следил за мной, но я оказался в состоянии скрыть боль. Как только все было срезано, я собрался уходить. Эсэсовец удивился и спросил, почему я не жду дальнейшего лечения. Услышав мой ответ: «Я получил все, что просил», он велел санитару в виде исключения обработать мою руку. Когда я вышел, он позвал меня назад и выдал карточку, дающую право на посещение лазарета и лечение, минуя проверку на входе.