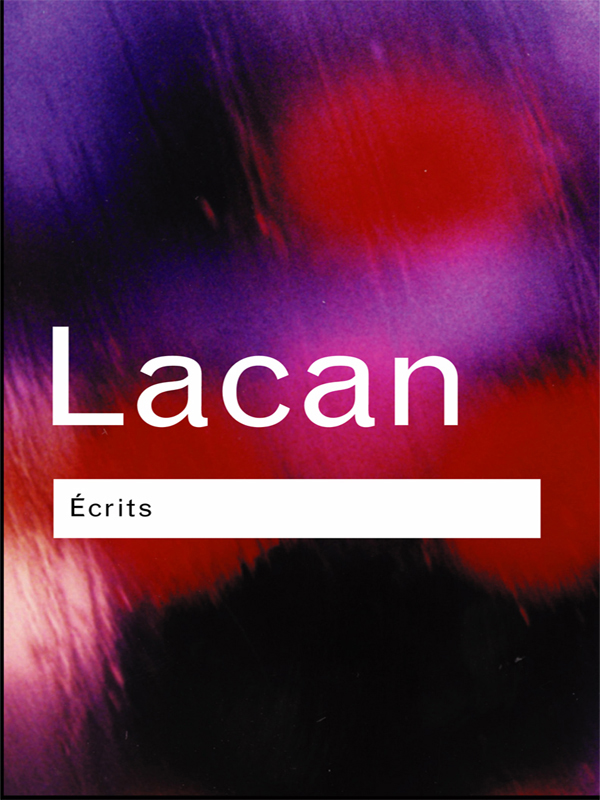упражнения в воображаемом порядке. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к описанию выражения лица пациента во время болезненного пересказа репрезентативной пытки, ставшей темой его навязчивой идеи, - крысы, заталкиваемой в анус жертвы: "Его лицо, - говорит Фрейд, - отражало ужас перед удовольствием, о котором он не подозревал". Эффект повторения этого рассказа в то время не ускользнул от Фрейда, как и отождествление психоаналитика с "жестоким капитаном", который заставил эту историю войти в память субъекта, как и значение теоретических разъяснений, которые субъект должен был получить, прежде чем продолжить свой дискурс.
Однако Фрейд удивляет нас тем, что не интерпретирует сопротивление в этой точке, а выполняет его просьбу, причем в такой степени, что кажется, будто он принимает участие в игре субъекта.
Но чрезвычайно приблизительный характер объяснений, которыми Фрейд его удовлетворяет, настолько приблизительный, что кажется несколько грубым, достаточно поучителен: в этот момент речь идет, очевидно, не столько о доктрине, и даже не о внушении, сколько о символическом даре речи, беременном тайным договором, в контексте воображаемого участия, которое включает его и значение которого раскроется позже в символической эквивалентности, которую субъект устанавливает в своей мысли между крысами и флоринами, которыми он вознаграждает аналитика.
Таким образом, мы видим, что Фрейд, отнюдь не отказываясь признать (méconnaître) сопротивление, использует его как благоприятную предрасположенность для приведения в движение резонансов речи, и он, насколько это возможно, соответствует первому определению, которое он дал сопротивлению, используя его для вовлечения субъекта в свое сообщение. В любом случае он резко сменит курс, как только увидит, что в результате тщательного манипулирования сопротивление переходит на поддержание диалога на уровне беседы, в которой субъект в дальнейшем сможет продолжать свое обольщение, сохраняя уклончивость.
Но мы узнаем, что анализ состоит в том, чтобы играть на всех многочисленных ступенях партитуры, которую составляет речь в регистрах языка и на, которые зависят от переопределения симптома, не имеющего никакого значения, кроме как в этом порядке
И в то же время мы обнаруживаем источник успеха Фрейда. Для того чтобы сообщение аналитика стало ответом на глубокий допрос субъекта, субъект должен услышать и понять его как ответ, присущий только ему; и привилегия, которой пользовались пациенты Фрейда, получая "хорошие новости" из уст самого человека, который их озвучивал, удовлетворяла это требование в них.
Отметим попутно, что в случае с Человеком-крысой испытуемый уже имел представление об этом, поскольку заглянул в только что вышедшую книгу "Психопатология повседневной жизни".
Это не значит, что эта книга сегодня гораздо более известна даже аналитикам, но вульгаризация фрейдистских понятий, перешедших в обыденное сознание, их столкновение с тем, что я называю языковым барьером, омертвили бы эффект нашей речи, если бы мы придали ей стиль фрейдовских замечаний Крысолову.
Но речь идет не о том, чтобы подражать ему. Для того чтобы заново открыть эффект речи Фрейда, мы должны обратиться не к ее терминам, а к принципам, которые ею управляют.
Эти принципы - просто диалектика сознания себя, как она реализована от Сократа до Гегеля, от иронической предпосылки, что все рациональное реально, до кульминации в научном представлении, что все реальное рационально. Но открытие Фрейда состояло в том, чтобы показать, что этот верифицирующий процесс подлинно достигает субъекта только путем его децентрации от сознания себя, в оси которого поддерживается гегелевская реконструкция феноменологии сознания: то есть это открытие делает еще более дряхлыми любые поиски prise de conscience, которая, помимо своего статуса психологического феномена, не может быть вписана в конъюнктуру конкретного момента, который один воплощает всеобщее и в отсутствие которого оно исчезает во всеобщности.
Эти замечания определяют границы, в которых для нашей техники невозможно не распознать структурирующие моменты гегелевской феноменологии: в первую очередь диалектику господина и раба, или диалектику прекрасного и закона сердца, и вообще все, что позволяет понять, как конституирование объекта подчиняется реализации субъекта.
Но если в гегелевском настаивании на фундаментальном тождестве особенного и всеобщего все еще остается что-то пророческое, настойчивость, раскрывающая меру его гениальности, то именно психоанализ, несомненно, дает ему парадигму, раскрывая структуру, в которой это тождество реализуется как дизъюнктивное по отношению к субъекту и без апелляции к какому-либо завтра.
Позвольте мне просто сказать, что именно это заставляет меня возражать против любого обращения к тотальности в индивиде, поскольку именно субъект вносит разделение в индивида, а также в коллективность, которая является его эквивалентом. Психоанализ как раз и показывает, что и то, и другое - не более чем миражи.
Казалось бы, это то, что уже невозможно забыть, если бы психоанализ не учил, что это можно забыть, - в отношении чего мы находим, по возвращении, более законном, чем принято считать, подтверждение от самих психоаналитиков, от того, что их "новые тенденции" представляют это забывание.
Ведь если, с другой стороны, Гегель - именно то, что нам нужно, чтобы придать так называемому аналитическому нейтралитету значение, отличное от ступора, это не значит, что нам нечему учиться у эластичности сократовской майевтики, или "акушерского искусства", или даже у той увлекательной технической процедуры, с помощью которой Платон представляет ее нам, - хотя бы потому, что мы переживаем в Сократе и в его желании все еще сохраняющуюся загадку психоаналитика, и определяя по отношению к платоновской скопии наше собственное отношение к истине - в этом случае, однако, таким образом, чтобы соблюсти дистанцию, отделяющую реминисценцию, которую Платон предположил как необходимую для любого появления идеи, от исчерпания бытия, которое завершается в кьеркегоровском повторении.
Но между собеседником Сократа и нашим собеседником есть и историческое различие, которое стоит рассмотреть. Когда Сократ опирается на наивную причину, которую он может с равным успехом извлечь из речи раба, это делается для того, чтобы дать подлинным хозяевам доступ к необходимости порядка, который делает справедливой их власть, а истиной - слова хозяина города. Но аналитикам приходится иметь дело с рабами, которые мнят себя хозяевами и находят в языке, чья миссия универсальна, опору для своего рабства и узы его двусмысленности.Настолько, что, какшутливо сказал бы , наша цель - восстановить в них суверенную свободу, которую демонстрирует Шалтай-Болтай, когда напоминает Алисе, что в конце концов он хозяин означающего, даже если он не хозяин означаемого, в котором его бытие приобрело форму.
Таким образом, мы всегда возвращаемся к нашей двойной ссылке на речь и на язык. Чтобы освободить речь субъекта, мы вводим его в язык его желания, то есть в первичный язык, на котором, помимо того, что он говорит нам о себе, он уже говорит с нами, неизвестный самому себе,