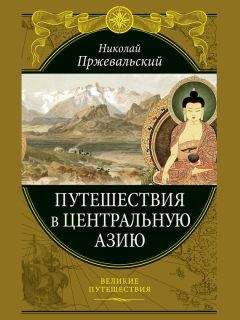В то время когда наша лодка плыла по реке, несколько раз показывались около фанз внизу и в крепости наверху горы белые фигуры корейцев и, пристально посмотрев, куда-то быстро скрывались. Но лишь только мы вышли на берег и направились к городу, как со всех концов его начали сбегаться жители, большие и малые, так что вскоре образовалась огромная толпа, тесно окружившая нас со всех сторон. В то же время явилось несколько полицейских и двое солдат, которые спрашивали, зачем мы пришли. Когда я объяснил через переводчика, что желаю видеться с начальником города, то солдаты отвечали на это решительным отказом, говорили, что их начальник никого не принимает, потому что болен, и что даже если пойти доложить ему, то за это тотчас отрежут голову. Впрочем, всё это было только одна уловка со стороны солдат, не желавших пустить нас в город; вместе с тем они требовали, чтобы мы тотчас же уходили на свою лодку и уезжали обратно.
Зная характер всех азиатцев, в обращении с которыми следует быть настойчивым и даже иногда дерзким для достижения своей цели, я начал требовать, чтобы непременно доложили начальнику города о моём приезде.
Между тем толпа увеличивалась всё более и более, так что полицейские начали уже употреблять в дело свои палочки, которыми быстро угощали самых назойливых и любопытных.
Действительно, становилось уже несносным это нахальное любопытство, с которым вас рассматривают с ног до головы, щупают, берут прямо из кармана или из рук вещи и чуть не рвут их на части. Впрочем, в толпе были только одни мужчины; женщин я не видал ни одной во всё время своего пребывания к Кыген-Пу. Не знаю, действовало ли здесь запрещение ревнивых мужей, или кореянки, к их чести, менее любопытны, чем европейские женщины.
Между тем солдаты [120] опять начали повторять своё требование, чтобы мы убирались обратно, и, наконец, видя наше упорство спросили: имею ли я какую-либо бумагу к их начальнику, без чего уже никоим образом нельзя его видеть. Хотя со мной не было никакого документа в этом роде, но, по счастию, оказалось в кармане открытое из Иркутска предписание на получение почтовых лошадей, и я решился пустить в дело эту бумагу, на которой сидела большая красная печать, самая важная вещь для корейцев.
Взяв от меня это предписание, один из солдат начал рассматривать печать и потом вдруг спросил: почему же бумага написана не по-корейски?
На это я ему отвечал, что корейского переводчика теперь нет в Новгородской гавани, что он куда-то уехал, а без него некому было писать.
Убедившись таким аргументом и помявшись ещё немного, солдат решился, наконец, доложить обо мне начальнику города. Для этого он сделал рукой знак, чтобы следовать за ним, и повёл нас в особый дом, назначенный для приёма иностранцев, которые до последнего времени состояли только из пограничных китайских властей.
Дом, назначенный для такого приёма, находится с краю города, шагах в пятидесяти от крепости и состоит из простого навеса, обнесённого тремя деревянными стенами, с таким же полом, на который ведут несколько ступенек. Внутри здания к средней стене приделано ещё небольшое отделение, вроде маленькой комнаты, с решётчатыми дверями. Над этими дверями висит доска с каким-то писанием, вероятно, заключающим правила, как должны вести себя иностранцы, удостоенные великой чести видеть начальника города Кыген-Пу. Однако едва ли кто из немногих иностранцев, здесь бывших, мог читать наставления относительно своего поведения, так как они написаны только по-корейски.
Оставив нас в приёмном доме и сказав, чтобы мы здесь ждали, солдаты пошли с докладом к начальнику города.
Между тем толпа, не отстававшая ни на минуту и всё более увеличивавшаяся, опять окружила нас со всех стороны и битком набилась даже под навес.
Мальчишки начали уже школьничать, дёргали нас исподтишка за фалды или за панталоны, а сами скрывались. Взрослые же корейцы попрежнему ощупывали, обнюхивали или стояли неподвижно, не спуская с нас глаз.
Минут через десять после ухода солдат принесли несколько плетёных из травы цыновок, которые разостлали на полу и одну из них покрыли небольшим ковром; всё это было знаком, что начальник города согласился на свидание.
Спустя ещё немного времени в крепости вдруг раздалось пение - знак шествия начальника, которого несли четыре человека на деревянных носилках. Впереди шло несколько полицейских, которые своими длинными и узкими палочками или скорее линейками разгоняли народ; потом четыре мальчика, исполняющие должность прислужников; за ними ехал на плечах своих подчинённых сам начальник города и, наконец, человек десять солдат заключали шествие. Всё это пело или, лучше сказать, кричало во всю глотку, что, вероятно, у корейцев делается всегда, когда только куда-нибудь несут начальника. Сам он сидел сложа руки и совершенно неподвижно на деревянном кресле, приделанном к носилкам и покрытом тигровой шкурой.
Вся толпа, до сих пор шумная, лишь только увидала шествие, мигом отхлынула прочь и, образовав проход, почтительно стала по бокам дороги; несколько человек даже поверглись ниц.
Взойдя на ступеньки приёмного дома, носильщики опустили свои носилки. Тогда начальник встал с них, сделал несколько шагов внутрь здания и, поклонившись мне, просил сесть на тигровую шкуру, которую сняли с кресел и разостлали на цыковках.
Сам он довольно красивый пожилой человек 41 года, по фамилии Юнь-Хаб и в чине капитана, сатти по-корейски.
В одежде начальника не было никаких особенных знаков отличия. Как обыкновенно у корейцев, эта одежда состояла из белого верхнего платья, панталон, башмаков и шляпы с широкими полями.
Прежде чем сесть на ковер, разостланный рядом с тигровой шкурой, назначенной собственно для меня, Юнь-Хаб снял свои башмаки, которые взял и поставил в стороне один из находящихся при нём мальчиков.
В то же время возле нас положили бумагу, кисточку, тушь для писания и небольшой медный ящик, в котором, как я после узнал, хранится печать. Наконец, принесли ящик с табаком, чугунный горшок с горячими угольями для закуривания, и две трубки, которые тотчас же были наложены и закурены. Одну из них начальник взял себе, а другую предложил мне, но когда я отказался, потому что не курю, тогда эта трубка была передана переводчику-солдату, который, по моему приказанию, уселся рядом со мной.
Все же остальные присутствующие, даже адъютант начальника и много других корейцев, вероятно, самых важных обитателей города, стояли по бокам и сзади нас.
Наконец, когда мы уселись, Юнь-Хаб прежде всего обратился ко мне с вопросом: зачем я приехал к нему?
Желая найти какой-нибудь предлог, я отвечал, что приехал собственно для того, чтобы узнать, спокойно ли здесь на границе и не обижают ли его наши солдаты. На это получил ответ, что все спокойно, а обиды нет никакой.
Затем он спросил: сколько мне лет и как моя фамилия? То и другое велел записать своему адъютанту, который скоро записал цифру лет, но фамилию долго не мог выговорить и, наконец, изобразил слово, даже не похожее на неё по звукам. Однако чтобы отделаться, я утвердительно кивнул головой и в свою очередь спросил о возрасте и фамилии начальника.
Этот последний сначала принял меня за американца и долго не хотел верить тому, что я русский.
Затем разговор свёлся на войну, недавно бывшую у корейцев с французами, и Юнь-Хаб как истый патриот совершенно серьёзно уверял меня, что эта война теперь уже кончилась полным торжеством корейцев, которые, побили несколько тысяч врагов, а сами потеряли за всё время только шесть человек.
Потом принесли географический атлас корейской работы, и Юнь-Хаб, желая блеснуть своей учёностью, начал показывать мне части света и различные государства, называя их по именам. Но, как видно, он имел весьма скудные географические сведения, потому что часто сбивался в названиях и справлялся в тексте, приложенном к каждой карте. Я же нарочно притворился ничего не знающим, а потому корейский географ мог врать не смущаясь. Все карты были самой топорной работы, и хотя очертания некоторых стран нанесены довольно верно, но в то же время попадались страшно грубые ошибки. Так, например, полуостров передней Индии урезан до половины, а на месте нашей Камы показана какая-то река без истока и устья вроде длинного, узкого озера.
Перебирая одно за другим различные государства и часто невообразимо искажая их названия, Юнь-Хаб, наконец, добрался до Европы, где тотчас же отыскал и показал Францию с Англией. Потом, пропустив всё остальное, перешёл к России, где также показал Петербург, Москву и, не знаю почему именно, Уральские горы. Показания его относительно России оказались настолько обширны, что он даже знал о сожжении Москвы французами. Когда эту фразу мой переводчик никак не мог понять и передать, то Юнь-Хаб взял пеплу из горшка, в котором закуривают трубки, положил на то место карты, где обозначена Москва и сказал: «французы».