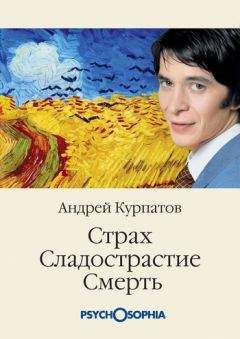Для Уайльда Христос – «Индивидуалист» («Величайший из всех Индивидуалистов» – скажет о Христе Оскар Уайльд), человек, позволивший себе быть тем, кто он есть, а не тем, каким его хотели видеть. «Проступок» Христа, за который он заплатил самую высокую цену, – это акт само-бытия, до последнего момента он не отрекся от себя, он продолжал утверждать свою подлинность, подлинность, которую он обозначил странным словосочетанием: «Иисус – царь иудейский»; именно этой смелости социум никак не мог ему простить. Слово «человек» не имеет множественного числа, поэтому «Индивидуализм» для Уайльда – это не корыстный эгоизм Иуды, а отвоеванное у власти право быть человеком. Обидно и горько, что нам приходится отвоевывать это право. Но как иначе преодолеть наш страх, если не борьбой, не благородным гневом? Как иначе мы можем вернуть себе человеческое, если не стремлением быть не теми убогими и бездушными существами, каковыми нас создало общество, прикрываясь высокими идеалами, а тем человеком, которым создал нас Бог по Своему образу и подобию?
«Бог есть любовь», – говорит возлюбленный Христом Иоанн Богослов, и мы таковы по своей сути и в нашем существе. Но таковы ли мы на самом деле, в жизни? Общественное подавление никогда не позволит нам этого, оно никогда не позволит нам любить. И слава богу, что есть еще те, для кого лучше уж быть распятым, чем предать Бога в своей душе. Может быть, хоть этот шаг способен образумить убийц, убивающих в другом самих себя. Церковники говорят, что на нас кровь Христова, но это неправда, мы запятнаны своей собственной кровью, мы танцуем на собственной крови.
Знак страха в спектакле Романа Виктюка не менее очевиден и ярок, нежели знак подавления. Все в той же сцене суда страх обретает почти физическую реальность, буквально вибрирует, подобно сукровице, истекая в зрительный зал. Уайльд пытается сдержать внутреннее напряжение, и кажется, это ему удается, но взглянем на прочих персонажей «процесса». Привлеченные к ответу, они замирают в тяжелой паузе мертвецкого испуга. Их жесты вычурны, этим Роман Григорьевич интонирует используемые «свидетелями» маски самозащиты. Но разве мы не замечаем в этих «широких жестах» нервное дрожание? Нет, их руки вовсе не дрожат, но это внутреннее дрожание (которое, впрочем, столь же очевидно, как если бы оно было внешним, физическим) проявляется с такой неимоверной отчетливостью, что не остается никаких сомнений: эти персонажи пожираемы страхом. И разве не приковывает наше внимание их физическое напряжение, свойственное только острому чувству страха? Полутанцевальные-полуакробатические движения актеров призваны заострить наше внимание на страхе, который испытывают все люди перед лицом «правосудия», перед безликостью подавления.
Только мать Оскара, движимая своей беззаветной любовью к сыну, пытается преодолеть этот страх, но даже она способна лишь на крик отчаяния. Надрывно, сквозь проступающие слезы, она обращается к судьям сына, и каждая буква ее речи – это одновременно и мольба, обращенная в зал, и обличающее обвинение, в бессилии брошенное на наши склоненные от страха головы. Не судьи, но мы, исполненные внутренним подавлением, своим страхом, сделали возможным суд над ее сыном, суд над человеком. Мы – тот социум, который запрещает составляющим его индивидам быть самими собой. Ради общественного благополучия, ради собственного, как кажется, благополучия, корыстно мы идем на этот предательский шаг, и мы же сполна платим по счету за свою измену. Иуда повесился, удавился, но цена его смерти – не цена свободы, которую заплатил Христос; жизнь свою Иуда оценил в тридцать сребреников собственного «благополучия».
Страх, буквально распирающий Молодого сирийца, сквозящий в каждой его фразе, увенчан смертью. Он своими немыслимыми, безумными кубертатами, долгими мучительными паузами, криком заставляет нас испытывать страх. Полные страха и отчаяния, повторяющиеся рефреном слова Молодого сирийца, обращенные к Саломее: «О нет, царевна! Не оставайся здесь, царевна. Умоляю тебя, не оставайся!» – являются непосредственной вербализацией нашего страха: мы «не должны», «не можем», «не смеем», мы постоянно смутно ощущаем себя в чудовищной опасности. Этот голос, голос разрывающейся на части души – голос страшащегося человека. Так в застенках Рэдинга, должно быть, кричал и Оскар Уайльд, так кричим мы в неприступных тюрьмах наших парализованных от страха тел.
Чего мы боимся? Того же, что и «Молодой сириец», – нарушения запрета и невозможности признаться себе в наших собственных чувствах; мы не можем сказать «люблю», испытывая любовь, и мы не можем сказать: «Я боюсь!», находясь в плену страха. Слово «любовь» кажется нам неподходящим и затертым, но это лишь объяснение, служащее целью оправдать наш страх, а страх мы уже не способны отличить от самих себя, мы сами стали собственным страхом, ничего не осталось в человеке, кроме страха, подавление, осуществляемое обществом и культурой, сделало свое дело: оно уничтожило человека.
О знаке игры можно даже не говорить, столь он нагляден в «Саломее» Романа Виктюка. Этот знак пронизывает весь спектакль, подобно вертелу, на котором поджариваются подавленные и испуганные души его героев. И все, исключая лишь Саломею-Бози, играют игру, играют «странные игры». Эти игры называют «играми Оскара Уайльда», но разве же не олицетворяет Уайльд с его «странными играми» наш собственный страх, нашу внутреннюю подавленность, нашу игру? Не играет только один персонаж спектакля – Саломея-Бози, потому что это не человек – это маска человека, одна только маска. «Не следует подолгу смотреть ни на людей, ни на предметы. Нужно смотреть только в зеркало, ибо в зеркале не увидишь ничего, кроме маски», – говорит Ирод, обращаясь к Саломее. Ни в сцене суда, ни в сцене соблазнения Иоканаана ни одна черточка не колыхнется на этой затвердевшей прижизненно посмертной маске. Только в апокалипсисе «танца Саломеи» мы увидим, на что способно это «лицо»! Саломея-Бози – существо, съеденное своей маской, это «портрет» человека, это все, что осталось от человека, который вырос на изуродованной земле подавления и страха, впитав в себя ее «мертвую воду». Саломея-Бози – мертвец, живой труп, маска, в которой не осталось ничего человеческого. Такими вырастут наши дети, если мы, наконец, не одумаемся. «Саломея» Романа Виктюка – величайшая антропологическая утопия. Но, боже, насколько она реальна!
Знак нашей всеобщей невозможности ужаснуться, может быть, один из важнейших в спектакле. Чувство внутреннего подавления, по-хозяйски обосновавшееся в нашем существе, сдавливает душу, превратив ее в «спертый душок» заболевшего, мутного стекловидного тела. Наши глаза, усыпанные скотомами страха, делают нас жестокими слепцами, не способными ни к любви, ни даже к состраданию. Поэтому жестокость наша обращена против нас же, не «соринка», а полновесное «бревно» ранило наш глаз. И хотя теперь мы сильнее, чем когда бы то ни было, боимся душевной боли, мы перестали чувствовать собственную боль благодаря тугой, давящей повязке страха. А может быть, это боль, став чрезмерной, вышла за пределы диапазона чувствования.
Ныне мы другим указываем на «соринки», проецируя на других собственное уродство. Конечно, теперь целительная возможность ужаснуться и в Ужасе этом увидеть истинный свет Сущего и собственной души, томящейся на грани небытия, нам заказана. Вот о чем говорит этот знак, блистательно вычерченный Романом Виктюком. Роман Григорьевич, благодаря сущностной ассоциации Ирода-Уайльда, позволяет нам услышать говорение этого знака, знака нашей всеобщей невозможности ужаснуться. Ирод, который никак не должен был бы вызывать у нас сочувствие, словно бы по мановению волшебной палочки мистического дирижера, вдруг, каким-то необыкновенным образом, парадоксально, становится до боли родным зрителю, нашим «родным существом». Роман Григорьевич заставляет нас буквально идентифицироваться с невольным убийцей Пророка, чтобы мы пережили весь ужас его (своего) положения подавленности, его страха, ужас от исполнения взятой на себя чудовищной роли. В подступающем ужасе, который сквозит в замершем лице Ирода, в его оцепенелых движениях и холодящем, запинающемся голосе, – стенает наша истерзанная душа, придающая необычайную силу трагическому знаку невозможности ужаснуться.
«Нет, нет, Саломея, – молит несчастный тетрарх. – Не проси меня об этом. Я поклялся моими богами. Я это прекрасно знаю. И все же я умоляю тебя, Саломея, попроси меня о чем-нибудь другом, попроси у меня половину моего царства, и я отдам ее тебе. Но не проси меня о том, о чем ты только что просила. Саломея, прошу тебя, будь благоразумной. Ведь я никогда не причинял тебе зла. Напротив, я всегда любил тебя… Быть может, слишком любил. Так не проси же меня об этом. То, о чем ты просишь меня, ужасно, это просто чудовищно. Я думаю – нет, я даже уверен, – что это только лишь шутка. Нет, нет, ты этого просто не можешь хотеть. Ты говоришь это, чтобы проучить меня за то, что я весь вечер смотрел на тебя. И правда, весь вечер я смотрел на тебя. Твоя красота не давала мне покоя. Твоя красота ужасно смущала меня, и я слишком долго смотрел на тебя. Но я больше не буду смотреть на тебя. Только освободи меня от данной мной клятвы и не проси у меня того, что ты у меня просила. Ты же не хочешь, чтобы меня постигло несчастье? Ты просто не можешь этого хотеть (курсив мой, – А.К.)». Эти повторяющие сами себя монологи – голос подавления, страха и отчаяния. Ирод-Уайльд не может ужаснуться, оказавшись на зыбкой грани Ужаса. Это дикое балансирование на грани безумия выведено в партии Ирода-Уайльда с невероятным, подлинным ужасом без Ужаса. Ирод-Уайльд испуган, но не может ужаснуться: «Я уверен, случится какое-то ужасное несчастье. Манасия, Иссахар, Озия, погасите факелы. Я ничего не хочу видеть и не хочу, чтобы меня было видно. Погасите факелы! Спрячьте от меня луну! Спрячьте звезды! Давай укроемся в нашем дворце, Иродиада. Мною овладевает ужас»…