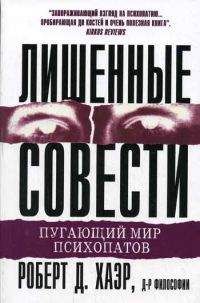Область моей профессиональной деятельности находится на пересечении мозга и сознания, в той точке, где совместное влияние полученного опыта и принятых нами решений в конечно итоге определяет, станем мы настоящими людьми или нет. В этой книге я хочу поделиться тем, чему научился за время своей работы. Несмотря на пережитые ими боль и страх, дети, чьи истории я здесь рассказываю (и еще многие другие, подобные им), проявляют великую отвагу и человечность, и это дает мне надежду. Они помогли мне узнать очень много о том, что такое потеря, но также — что такое любовь и исцеление.
Уроки, которые преподали мне эти дети, могут стать уроками для всех нас. Ведь, если мы хотим лучше понять влияние травмы, мы должны понять, что собой представляет человеческая память. Чтобы понять, как дети восстанавливаются после пережитой травмы, мы должны понять, как они учатся любить, как они справляются с трудностями и как на них влияет стресс. И наконец, осознав разрушительное влияние насилия и жестокости на нашу способность любить и жить продуктивной, полноценной жизнью, мы можем лучше понять самих себя и научиться дарить любовь окружающим нас людям, в особенности детям.
Малышка Тина была моей первой пациенткой. Когда я ее впервые увидел, ей было всего семь лет. Она сидела в приемной Чикагской университетской клиники детской психиатрии. Очень маленькая и худенькая, она свернулась клубочком рядом с матерью и младшим братом. На руках у матери был еще грудной ребенок. Тина явно боялась, не зная, чего ожидать от незнакомого доктора. Когда я провел ее в свой кабинет, трудно было сказать, кто из нас нервничал больше — темнокожая девочка с туго заплетенными косичками, ростом чуть выше метра или молодой белый мужчина с гривой вьющихся волос, ростом больше метра восьмидесяти. Тина на минутку присела на кушетку, осматривая меня сверху донизу, потом подошла, забралась ко мне на колени и уютно пристроилась там.
Я был растроган. Боже, что за милое дитя! Как же я ошибался… Девочка слегка передвинулась, ручка оказалась в моей промежности, и она стала трудиться, пытаясь открыть молнию на моих брюках. Неизвестность больше не тревожила меня, мне стало грустно. Я убрал ее руку и осторожно снял девочку с колен.
Утром, перед тем как я впервые увидел Тину, я прочитал историю ее болезни — небольшой листок бумаги с минимумом информации, полученной нашим сотрудником во время телефонного опроса. Я узнал, что Тина жила с матерью, которую звали Сара, и с младшими братом и сестрой. Сара обратилась в клинику детской психиатрии, потому что в школе, где училась Тина, настаивали на этом. Тина «проявляла агрессию и вела себя неподобающе» по отношению к другим детям. Она нападала на них, обнажала и демонстрировала определенные места своего тела, говорила непристойности и пыталась вовлечь детей в сексуальные игры. Девочка была очень невнимательной на занятиях в классе и упорно отказывалась подчиняться старшим.
Наиболее важная информация, которую содержал листок, заключалась в том, что, когда Тине было четыре года, началась история, закончившаяся только когда ей исполнилось шесть лет. В течение двух лет она подвергалась сексуальному насилию. Виновником преступления был шестнадцатилетний подросток, сын ее няни. Он приставал к Тине и к ее младшему брату, мучил и развращал их, когда Сара была на работе. Мать Тины была не замужем, пособие ей уже не выплачивали, и она работала в лавке, получая минимальную заработную плату, на которую ей нужно было содержать семью. Чтобы не оставлять детей одних, Сара договорилась (разумеется, без какого-либо оформления этой договоренности) с соседкой по площадке, чтобы та присматривала за детьми в ее отсутствие.
К несчастью, эта соседка часто оставляла малышей со своим сыном, а сама бегала по разным делам и поручениям.
А ее сын был психически болен. Он связывал детей, насиловал их с помощью разных предметов и угрожал убить их, если они кому-нибудь расскажут о том, что с ними происходит. В конце концов, его мать поймала его за этими занятиями, и мучения детей прекратились. Сара больше никогда не поручала соседке своих детей, но вред уже был причинен. Подростка судили, но он попал не в тюрьму, а в больницу.
И вот вскоре после всего этого произошла наша первая встреча с Тиной. У ее матери почти не было средств к существованию, у девочки были серьезные проблемы с психикой, а я очень мало знал о детях, ставших жертвами насилия.
— Ну вот теперь давай попробуем что-нибудь раскрасить, — мягко сказал я, снимая Тину с колен. Казалось, девочка была огорчена. Вероятно, она боялась, что чем-то вызвала мое неудовольствие. Или я рассердился на нее? Тина обеспокоенно изучала выражение моего лица своими темно-карими глазами, наблюдала, как я двигаюсь, прислушивалась к моему голосу, чтобы найти какую-нибудь невербальную подсказку, которая помогла бы ей установить контакт со мной. Мое поведение, видимо, не укладывалось в имеющийся у нее внутренний каталог предыдущих отношений с мужчинами. Она знала только мужчин — сексуальных хищников. У нее не было ни любящего отца, ни всегда готового помочь дедушки, ни доброго дяди, ни старшего брата. Все ее представления о взрослых мужчинах ограничивались часто меняющимися приятелями матери и ее собственным мучителем. Ее опыт говорил ей, что мужчины хотят секса от нее или от ее матери. И она вполне логично предположила, что я хочу того же.
Что мне следовало делать? Насколько реально изменить привычки или представления, сложившиеся в течение нескольких лет, за один час терапии в неделю? Ни мой жизненный опыт, ни полученное образование не подготовили меня для встречи с этой маленькой девочкой. Я не понимал ее. Возможно, она общалась со всеми людьми, включая женщин и детей, с мыслью о том, что все они хотят от нее секса? Может быть, ей казалось, что это единственный способ подружиться? Не было ли ее агрессивное поведение в школе результатом подобных представлений? Возможно, мою непонятную реакцию она объясняла тем, что она мне не понравилась и я ее отверг — и как это могло подействовать на нее?
Шел 1987 год. Я был аспирантом Чикагского университета, специализируясь в детской и подростковой психиатрии, и мне оставалось два года до завершения обучения в одной из лучших в стране медицинских школ. Я уже имел степени доктора медицины и доктора философии. Я три года провел в интернатуре, изучая медицину и общую психиатрию. И я возглавлял лабораторию нейрофизиологии, в которой мы изучали механизмы стресса. Я знал все возможное про нервные клетки и структуры мозга, про их сложное взаимодействие и про химию мозга. Я потратил годы, пытаясь понять, как работает человеческое сознание.
И в результате все, что я мог сделать — сесть рядом с этой девочкой за маленький столик, положить перед ней набор картинок для раскрашивания и цветные карандаши. Она взяла картинки и пролистала их.
— Мне можно порисовать здесь? — тихонько спросила она, явно не уверенная, что в этой странной ситуации следует заниматься подобным делом.
— Да, конечно, — сказал я. — Вот и я сейчас что-нибудь раскрашу. Вот это платье, как ты думаешь, как его покрасить, голубым или красным цветом?
— Красным.
— А что у тебя?
Она подняла и показала мне другую картинку.
— Очень мило! — сказал я. Она улыбнулась. Следующие сорок минут мы сидели рядышком, спокойно раскрашивая страницу за страницей, брали то один, то другой карандаш и демонстрировали друг другу наши достижения, стараясь свыкнуться с тем, что каждый из нас находится в одном пространстве с незнакомым человеком. Когда занятие закончилось, я отвел Тину обратно в приемную. Ее мать держала на руках маленького и разговаривала со своим четырехлетним сынишкой. Сара поблагодарила меня, и мы договорились о встрече на следующей неделе. Когда они ушли, я понял, что мне нужно поговорить со своим руководителем, имеющим большой опыт, и спросить совета, как помочь этой маленькой девочке.
Руководитель в сфере психиатрии — термин, вводящий в заблуждение. Когда я был интерном, рядом всегда были опытные врачи, готовые дать совет, поругать, помочь, научить. Когда я делал что-то неправильно, меня немедленно поправляли. Когда приходилось взаимодействовать с пациентами, всегда опытный клиницист был готов прийти на помощь.
Но все это не касается психиатрии. Будучи аспирантом, я практически всегда проводил встречи с пациентами (а при необходимости, и с их семьями) в одиночку и только потом обсуждал все возникшие у меня вопросы с руководителем. Более того, аспирант на кафедре детской психиатрии, как правило, имеет несколько руководителей для клинической работы. Часто мне приходилось показывать одного и того же ребенка разным руководителям или обсуждать с ними один и тот же спорный вопрос — было интересно собрать все их впечатления и мнения и извлечь из них нечто обнадеживающее. Было приятно встретить понимание.