Когда я работал над этой книгой, то, к своей радости, обнаружил, что многие представители юного поколения, первым испытавшего на себе, что такое недостаток общения с природой, соприкоснувшись с ней, все же сумели интуитивно почувствовать, сколь многого лишились. Тяга молодых людей к природе придала мне сил. Они противятся стремительному уходу из мира реального в мир виртуальный, из настоящих гор — в матрицу. Они не хотят оказаться последними детьми, побывавшими в лесу.
И все же моим сыновьям грозит опасность испытать на себе то, что Билл Маккиббен назвал «концом природы», — бесконечную печаль мира, которой не избежать ни одному из живущих в нем людей[3]. Но существует и иная возможность: не гибель природы, а возрождение чуда и радости жизни. Скорбное заявление Джексона об исчезновении духа американских первопроходцев было справедливо только отчасти. Одна граница стерлась, но за ней появилась вторая, в пределах которой американцы романтизировали и покоряли, защищали и губили природу. А теперь граница там, где фермерские угодья, где дорога уходит в лес, где раскинулся национальный парк, и мы всем сердцем чувствуем, как она исчезает или меняется до неузнаваемости.
Но, как и раньше, наши взаимоотношения с природой могут перейти на иную, более высокую ступень. И эта книга — рассказ о завершении раннего периода и одновременно о новом этапе развития, о более совершенной жизни в союзе с природой.
Часть I
Новые взаимоотношения между детьми и природой
Вот она перед нами, взывающая к нам мать-природа, везде, куда ни кинешь взгляд, во всей своей красоте, с любовью к своим детям, что сродни любви леопарда. И все же мы оторвались от ее груди ради общества, ради той культуры, которая строится исключительно на отношениях человека к человеку.
Генри Дэвид Торо
Когда я вижу березы,
склоняющиеся то вправо, то влево,
Я представляю мальчиков,
раскачивающихся на их ветвях.
Роберт Фрост
Если вы в юности исходили вдоль и поперек леса Небраски[4], или гоняли голубей на крышах Квинса[5], или ловили тунца в водах Озарка[6], или чувствовали, как катившаяся сотни миль волна набрала силу и приподняла вашу лодку, значит, ваша связь с миром природы сохранилась и по сей день. Природа продолжает наполнять нас живительной силой, она поддерживает нас и несет по жизни через годы.
В жизнь ребенка природа входит в самых разнообразных проявлениях. Только что родившийся теленок, прожившее с ним бок о бок и умершее домашнее животное, протоптанная в лесу тропинка, приютившаяся в крапиве крепость, пропитанная влагой незнакомая земля у самого края выделенного под застройку участка — в какой бы форме ни представала перед ребенком природа, она открывает ему иной мир, который старше и огромнее, чем тот, где он живет с папой и мамой. В отличие от телевизора природа не крадет время, она раздвигает его границы. Природа залечивает раны ребенка, которого не поняли дома или обидели соседи. Она — тот чистый лист бумаги, на котором малыш рисует, превращая в образы свои фантазии. Природа побуждает ребенка к творчеству, требуя наблюдательности и использования в полной мере всех органов чувств. Ребенок, у которого есть возможность обратиться к природе, принесет свое непонимание мира в леса и поля, омоет его в тихой заводи реки, посмотрит на него другими глазами и сможет увидеть оборотную сторону своих сомнений и бед. Природа, конечно же, может и испугать дитя, но даже этот страх сослужит ему добрую службу Именно здесь, среди природы, ребенок поймет, что такое свобода и фантазия, найдет ответы на свои вопросы, убежище от мира взрослых, тишину и покой.
Однако все перечисленные ценности носят для человека чисто утилитарный характер. Если рассматривать проблему на ином, более глубоком уровне, то можно сказать, что природа дарит себя людям ради собственного же блага, в этом ее потребность; ей нет дела до наших культурных запросов. И мысля на таком уровне, можно сказать, что неразгаданная природа взывает к смирению.
Как написал о природе выдающийся поэт Гэри Снайдер[7], в слове «природа» для нас заключено два значения, которые восходят к латинскому слову natura, что означает рождение, устройство, характер, порядок вещей, а за словом natura стоит nasci — рождаться. В широком понимании природа включает в себя материальный мир со всеми входящими в него предметами и явлениями. Если исходить из этого определения, то получается, что машина также является частью природы. То же можно сказать и о токсических отходах. Другое значение слова «природа» подразумевает все, что находится на улице — вне помещения. Отсюда можно заключить, что к природе не относится то, что сделано руками человека. При таком рассмотрении получается, что и город Нью-Йорк — это уже не природа, но ведь и там есть укромные, созданные самой природой уголки; и там есть обитающие в почве Центрального парка микроорганизмы и парящие в небе над Бронксом[8] ястребы. В таком случае город подчинен законам природы в самом широком смысле. Он — явление природы (такое же, как и машина), но с сохранившими природную дикость составляющими.
Размышляя о месте ребенка в природе, мы желаем более точного описания, более свободного определения, то есть такого, которое не признает права называться явлением природы за любой вещью и в то же время не сводит понятие природы к одному девственному лесу. Так, Снайдер пришел к фразе из Джона Мильтона — «безудержный восторг» (a wilderness of sweets). Он пояснял: «За понятием безудержности у Мильтона стоит реальное состояние необычайной энергетической насыщенности, в котором довольно часто пребывают организмы дикой природы. „Безудержность восторга“ — это триллионы мальков сельди и макрели в водах океана, кубические километры криля, необъятное море травы диких прерий, то есть все то богатейшее изобилие мельчайших животных и растений, что насыщает планету». Снайдер продолжает: «Но с другой стороны, безудержность подразумевает хаос, эрос, неизвестность, возникновение разного рода табу, царство экстатического и демонического начал. И все же в любом случае это присутствие естественной силы, которая бросает вызов и учит». Когда мы говорим о детях и о тех дарах, что преподносит им природа, лучше остановиться на третьем, более емком ее определении. Целевому назначению этой книги соответствует использование слова «природа» в том общем смысле, который я вкладываю в понятие естественной и свободной безудержности: это биологическое многообразие, изобилие, и не важно, относится ли это к заросшим уголкам двора за домом или массивному горному хребту. По большому счету, природа связана с нашей способностью изумляться чуду. Nasci. Рождаться.
И хотя мы часто воспринимаем себя отдельно от природы, человек — не что иное как часть ее естественной необузданности. Мое самое первое воспоминание об ощущениях, вызвавших у меня изумление, относится к холодному утру ранней весной в День независимости[9] в штате Миссури. Мне было тогда, вероятно, года три, я сидел на просохшем поле, начинавшемся за тесовым домом в викторианском стиле, в котором жила моя бабушка. Поблизости работал отец, он сажал сад. Он бросил на землю сигарету (это были те времена, когда многие так поступали: среди населения Среднего Запада было привычным швырять все, что не нужно, на землю, как, впрочем, и выбрасывать в окно машины бутылки из-под пива и банки из-под содовой или окурки), и ветер подхватил искры. Сухая трава загорелась. Я точно запомнил треск пламени, запах дыма и свистящий звук затаптывающих пламя папиных ног и как он быстро переступал, чтобы успеть за пламенем, которое понеслось дальше по полю.
Помню, как я обходил потом это же место, заваленное опавшими грушами, как зажимал тогда нос и склонялся, отодвигаясь на безопасное расстояние от этих маленьких гниющих кучек, а потом вдыхал их запах так просто, ради эксперимента. Я, бывало, сидел среди гниющих фруктов, и что-то и влекло меня туда, и отталкивало. Огонь и кислый запах брожения…
Я провел много часов, обследуя поля и леса пригородной зоны. Там росли маклюры[10] с ощетинившимися колючками-ветвями, ронявшие на землю липкие, грязноватые плоды, превосходившие размерами резиновые мячи. Их лучше было обходить стороной. Но за защитной лесополосой были деревья, которые подходили нам гораздо больше — их небольшие ветви напоминали перекладины лестницы. Мы залезали на двухметровую высоту и, оказавшись выше живой изгороди из маклюр, рассматривали с высоты синеющие вдали изгибы Миссури и крыши новых домов разраставшегося пригорода.
Часто я залезал на дерево один. Иногда, размечтавшись, я углублялся в лес и представлял, что я — выросший среди волков Маугли из сказки Киплинга. Я сбрасывал почти всю одежду и забирался на дерево. Иногда я залезал очень высоко, до того места, где ветви настолько тонки, что на ветру раскачивались вверх-вниз, по кругу и из стороны в сторону. Подчиняться силе ветра было страшно и в то же время прекрасно. Меня переполняло ощущение падения, подъема, раскачивания из стороны в сторону; листья вокруг меня пощелкивали, как чьи-то пальцы, а ветер врывался в листву то глубоким вздохом, то отрывистым шепотом. Он приносил с собой запахи, и само дерево на ветру пахло сильнее. В конце концов, оставался только ветер, который пронизывал все остальное.
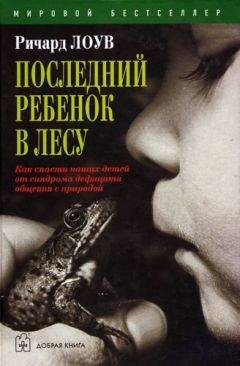


![Айзек Азимов - Роботы зари [Роботы утренней зари]](https://cdn.my-library.info/books/54967/54967.jpg)
