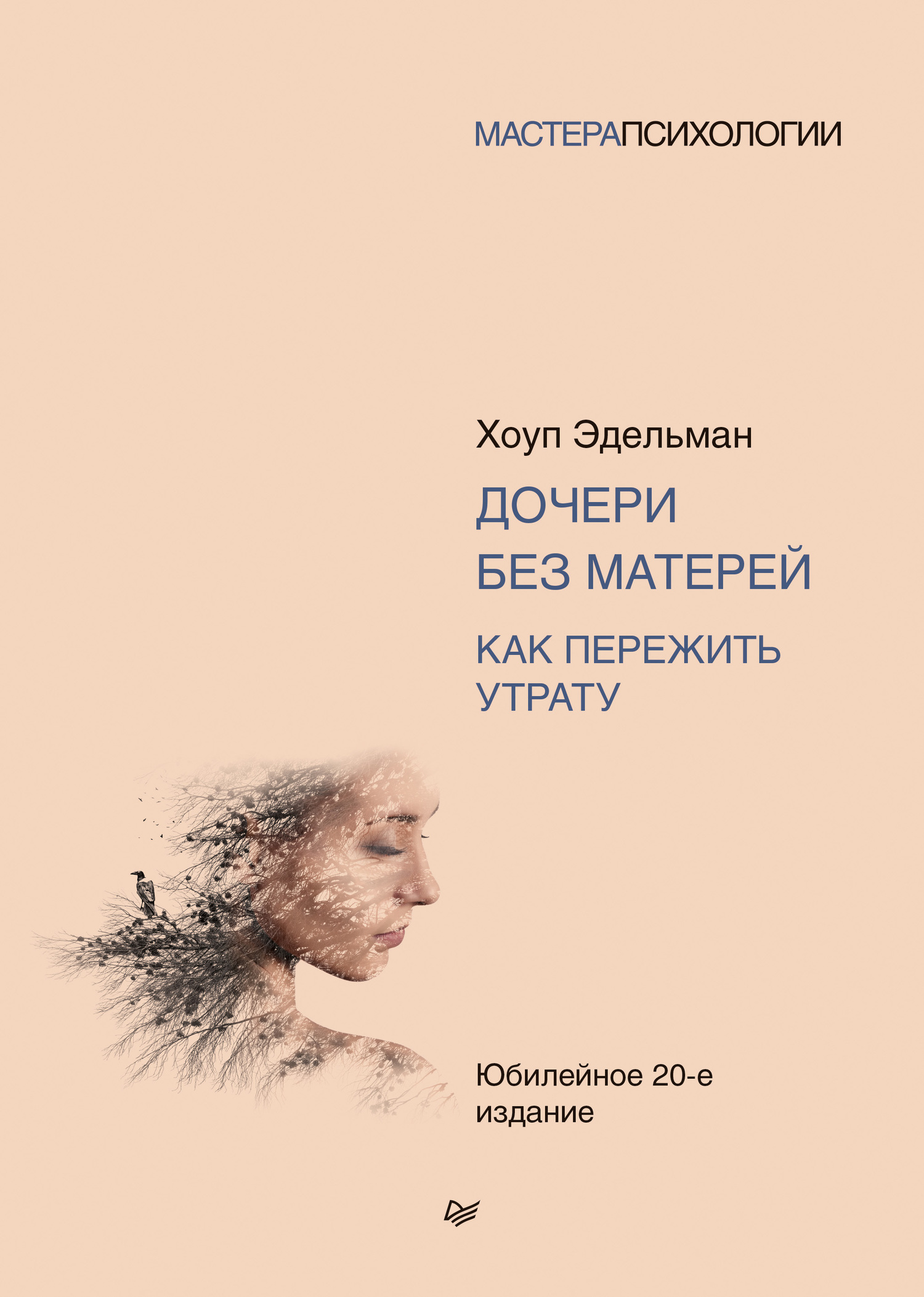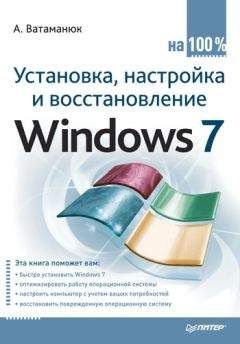медицину с химиотерапией и неудачей.
Моя мама болела три года. Перед смертью, летом, она приняла огромную дозу радиации, и я была единственным ребенком в семье, который по-прежнему жил с родителями. Я помню, как ходила с мамой в больницу и смотрела, как ее готовят к лучевой терапии. Тогда я думала: «Это безумие». Я уверена, что мое отношение к врачам и медицине сложилось в те годы. Мама была утыкана капельницами, как подушечка для иголок. Она походила на наркоманку – столько синяков у нее было на руках. Дошло до того, что у нее не осталось здорового места на руках, чтобы сдать анализ крови. Я думала: «Это не для меня».
За несколько дней до смерти мамы я услышала, как отец сказал врачу: «Ни за что. Мы не можем подвергнуть ее еще одной операции». В ту ночь я окончательно потеряла надежду. Поняла, что выхода нет и что больше ничего не сделать. Теперь все зависело оттого, сколько протянет ее тело. После этого я поверила в человечность эвтаназии. У меня сформировалось отвращение к последним усилиям в медицине или технологиях, когда ничего нельзя изменить. Я навсегда запомнила имя доктора Джека Кеворкяна [8]. Если со мной что-нибудь произойдет, я в первую очередь обращусь к нему.
Я не обращусь к врачам до тех пор, пока мне действительно не станет плохо. Я не люблю лекарства. Когда я подхватила инфекцию мочеполовых путей, врач отнеслась ко мне с большим пониманием. Она объяснила, что из-за типа бактерий она не могла посоветовать мне природные или гомеопатические средства. Мне пришлось принимать антибиотики. Я пропила их два дня и бросила. Просто я ненавижу все, что связано с медициной.
Как и Келли, женщины, чьи матери смертельно больны, обычно переживают несколько конфликтов сразу. Они видят, как любимый человек угасает, испытывают беспомощность и гнев, пытаются жить обычной жизнью и вынуждены приспосабливаться к постоянному ухудшению здоровья матерей. Это очень тяжело. Спустя 15 лет Келли справилась с чувством вины: в подростковом возрасте она нередко ссорилась с больной мамой. Но она по-прежнему не доверяет врачам и очень боится заболеть раком сама.
Хотя смерть – самая глубокая утрата, ребенок, чья мать умирает из-за продолжительной болезни, обычно переживает другие потери в это время. Меняется семейный уклад, ведь вся семья приспосабливается к болезни одного из ее членов. Ребенок чувствует, что ему уделяют меньше внимания. Иногда возникают финансовые проблемы. К тому же меняется восприятие ребенком матери. Повзрослев, женщина может помнить свою мать лишь как тяжелобольного человека. У нее могли не сложиться отношения с мамой, пока та была здорова. Девушки-подростки не всегда хотят жертвовать своей жизнью и проводить больше времени дома по желанию семьи. По мере развития болезни девушка, возможно, станет сиделкой для матери. Преждевременная смена ролей может вызвать у обеих чувства гнева и возмущения.
Девушка также осознает, что ее убеждения о родительской силе разбились вдребезги. Мама больше не всевластная фигура в семье, наделенная чудесной способность защищать детей от стресса и боли. «Когда ребенок наблюдает медленное угасание родителя, он не только видит скорую смерть, но и теряет сильного защитника», – поясняет Максин Харрис.
Не у всех женщин есть возможность поговорить с кем-то из семьи о своих страхах, потому что их родители, братья и сестры переживают то же самое. Мама – прибежище дочери в тяжелые периоды, но она вряд ли сможет выполнять эту роль, если сама боится и тревожится.
Это стало серьезной проблемой для Стейси, которая была единственным ребенком в неполной семье. Ее отец умер, когда ей было девять лет, а мама подхватила ВИЧ, когда Стейси исполнилось пятнадцать. В последующие четыре года она заботилась о маме, ходила в школу и пыталась преодолеть осуждение и чувство стыда, связанное с ВИЧ и СПИДом. И все это – без эмоциональной поддержки мамы, которая когда-то была ее близкой подругой. «Я потеряла ее, когда она была еще жива, – вспоминает Стейси. – Я помню, как однажды сама подхватила простуду. Мне хотелось побыть с ней, просто полежать рядом и почувствовать поддержку. Но я не могла, потому что мои бактерии были опасны для нее. Она не могла позаботиться обо мне, и это очень ранило меня. Мой отец умер неожиданно, и я помню свои мысли: «Жаль, что я не была рядом с ним в тот момент». А теперь умирала мать. Она медленно угасала, и мне кажется, это было даже тяжелее».
Многие психологи сходятся во мнении, что внезапную смерть тяжелее перенести в краткосрочном плане, потому что семья должна перестроить свой уклад в период шока и отрицания. Ожидаемая смерть – когда факт открыто обсуждается – дает семье шанс постепенно подготовиться к утрате. 32-летняя Саманта, которой было 14 лет, когда ее мама умерла после двухлетней борьбы с болезнью, вспоминает, как ее мама пыталась подготовить пятерых детей к жизни без нее. «Она знала, что умрет, поэтому делала то, что считала важным, – вспоминает Саманта. – Она задумывалась о том, как будет течь жизнь в семье без нее. Кто будет убирать дом? Кто будет готовить? Она использовала время, чтобы сплотить нас и научить всему. Она никогда не говорила: “Я научу всех вас готовить”, – но делала это, лежа в постели. Мы по очереди занимались ужином, и она каждый день объясняла, как готовить то или иное блюдо. Мы носились между кухней и спальней, чтобы записать рецепт и проверить, правильно ли все делаем. Мы учились, даже не зная об этом». После смерти матери Саманта и ее многочисленные братья и сестры без особых проблем приняли на себя домашние обязанности. По ее словам, это помогло им почувствовать себя способными и уверенными – в детстве и взрослом возрасте.
Длительная болезнь тоже дает семье время на предварительное переживание горя. Оплакивание начинается до смерти матери. Когда девочка знает, чем закончится болезнь мамы, у нее есть время привыкнуть к этой мысли, отказаться от надежд и ожиданий.
28-летняя Бет обнаружила, что предварительное оплакивание возможно, но редко представляет собой завершенный процесс. Ей было 24 года, когда матери диагностировали рак. У Бет было почти два года, чтобы привыкнуть к тому факту, что ее мать умрет. «Мой отец говорит, что он скорбел по маме, когда она болела, – рассказывает она. – Но для меня все было иначе. Да, мы плакали и горевали, пока наша мама умирала, но когда все закончилось и нельзя было ничего вернуть, мой мир развалился на части». По мнению Бенджамина Гарбера, такая реакция нормальна. Он