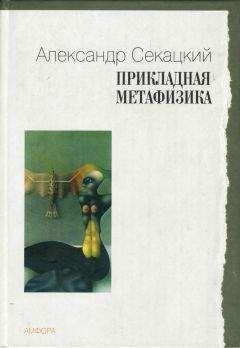Прямая чувственность есть калейдоскоп чистых состояний души, где гнев, ликование, скорбь или ярость являются эталонами однородных, насыщенных аффектов. Состояния не наслаиваются друг на друга, а последовательно предъявляются к проживанию и, что для нас самое важное, не вступают в смешение: не образуют химер. Раскладка прямой чувственности господина характеризуется единством воли и желания в каждом отдельном модусе бытия. Интенсивность, простота и бесстрашие суть главные модальности чистого кристалла души. Ressentiment знаменуется преобладанием вторичного, реактивного строя аффектов и вялотекущей реакцией взаимодействия (лучше будет сказать «взаиморазъедания» автономных модусов бытия, в результате чего образуются многочисленные контаминации, исследованием которых и занимается психология во всех ее ипостасях. Возникают зависть, злорадство, раздражительность, робость и еще великое множество сложных промежуточных состояний, для описания которых литература не жалеет произведений: сама художественная литература становится регистрацией рессентимента по преимуществу.
Для описания химер и разоблачения подмен не жалеет эпитетов и Ницше: тут и «малодушие, выдающее себя за кротость», и «бессилие, пытающееся перелгать себя в сострадание» — словом, весь парад христианских добродетелей. Происходящий массовый синтез химер расценивается преимущественно как фальсификация и измельчание, хотя Ницше и признает, что «лишь теперь человек становится интересным животным». Немудрено: ведь речь как раз идет о зарождении сферы psyche, о возникновении психологии как персонологии, перенесенной затем и на психологию отдельных способностей[45]. В зависимости от точки зрения можно сказать, что человек становится «духовно богаче», а можно расценить процесс как захламление чулана: если чулан заставить всякой рухлядью, он несомненно окажется более содержательным и наполненным, т. е. окажется «богаче» — но богаче всякой дрянью. Именно такова позиция Ницше в отношении к рессентименту.
Нас, однако, интересует другой аспект вопроса: нельзя ли рассмотреть рессентимент как фундаментальную гарлическую предосторожность — последовательную стратегию практического разума со всеми его хитростями по отношению к зову Океаноса, пробуждающего в человеке сверхчеловека, сверхвитальное и метаперсональное существо? Для подобной трактовки есть немало оснований. Ведь, в сущности, главным результатом психологической революции стало формирование разветвленного имманентного пространства аффектов, где преобладают полутона и смешанные состояния и практически отсутствуют чистые линии. Принцип воспитания-становления помещается во главу угла экзистенциального проекта гарлической цивилизации. В каком направлении ни пересекай царство рессентимента, везде обнаруживается его ведущий конституционный принцип — запрет туннельных эффектов. Трансформации и трансмутации повсюду заменяются вживанием, постепенным обретением определенного (а еще чаще неопределенного) микровитального состояния.
Возможность проследить переходы практически совпадает с границами вменяемости и юридической вменимости. Деяние, совершенное в состоянии аффекта, расценивается двояко: если оно спровоцировано обстоятельствами, исключившими становление, ббльшую часть вины перекладывают на провокатора, вызвавшего вспышку ревности, ярости, гнева и других витальных состояний, не позволивших воспользоваться гарлическими предосторожностями. Если же состояние аффекта не спровоцировано агентом, действующим по правилам рессентимента, юридические регулятивы уступают место психиатрическим (медицинским). Маньяк есть человек, точнее, существо, спонтанно пренебрегающее гарлическими предосторожностями и потому принципиально непостижимое и смертельно опасное для микровиталов. Непостижимость здесь означает прежде всего недостижимость скорости туннельных эффектов на трассах психологического становления. Психологические объяснения и, в частности, психологические мотивировки применимы только к малым скоростям: к «воспитанию чувств», к блокирующим друг друга реактивным, микровитальным состояниям и прочему многоцветью рессентимента. Мастера сплетения убедительных мотивов еще надолго останутся кумирами внимающей публики. Тезис Флобера «Мадам Боеари — это я» представляет собой (в известном смысле) тривиальную констатацию пребывания в сфере психического, на территории psyche, где переключение передач осуществляется в диапазоне привычных небольших скоростей, исключающих «отрыв от земли» — трансформации и трансмутации. Другое дело сказать «Носферату — это я»: тут никаким психологическим реализмом и не пахнет, поскольку вообще пахнет не психологией, а живой, текущей по малому кругу кровью, взывающей о преодолении разобщенности.
Вживание, включая его основные, исследованные Фрейдом модусы — отождествление и выбор объекта, — есть, конечно, некий способ иноприсутствия. Но перемещение в иноприсутствие лишь тогда психологически убедительно и вообще психологично, когда начальный и конечный пункт регулярно перекликаются друг с другом, когда они соединены реверберацией зова. Пусть первичная «идентификация с отцом» задает возможность последующих идентификаций с героями (например, литературных произведений), в любом случае речь идет о близости, обретаемой методом приближений. Успешная стыковка с точкой идентификации осуществляется по трассе, проложенной через сферу символического, а в интересующем нас аспекте символическое как раз и предстает в качестве предельно обескровленной витальности, состоящей из чистых консервантов без всякой примеси плоти. «Выбор объекта» — трасса более проблематичная и рискованная: на крутых поворотах здесь можно вылететь из привычной центрации Я на собственном автономном теле (оргия, трансгрессия, экстаз), но ремни безопасности, психологические амортизаторы не обрывают связь с инерционными структурами психики-для-другого — такими, как «биография», «характер», «гендер» и прочие предопределенности персональной телесности. Лишь синтез вампириона можно рассматривать не в терминах санкционированного иноприсутствия, а как прямую миграцию присутствия в преднаходимую инотелесность. Одержимость и мания суть формы проявления древнейшей движущей силы антропогенеза, а может быть, и биогенеза вообще.
Таким образом, психологическое конституируется замедлителями аффектов, разного рода разбавителями чистых мотивов. Гегель был первым, кто понял роль труда как важнейшего замедлителя, смиряющего скорость и осложняющего непосредственность желаний господина. Конечно, удивительным эпифеноменом труда стало производство вещей, но в качестве первичного предназначения выступает именно затрудненность, отсрочка и обуздание сверхвитальности. Труд органично входит в континуум психического наряду с другими замедлителями, ингибиторами туннельных переходов. Использование ингибиторов в последней стадии социогенеза (это и есть основное содержание рессентимента как психологической революции) оказалось не менее важным, чем использование катализаторов на ранних этапах антропогенеза.
Вторичное пунктирное присутствие
Репрессивные меры против возможных прорывов суперанимации встречаются повсюду. В частности, современное экологическое сознание, претендующее на роль самосознания цивилизованного человечества, всячески пытается переосмыслить природу в идиллическом духе, моделируя живое по образу и подобию плюшевых игрушек. Видеоряд идеологии зеленых представляет самопроизвольные синтезы вампирионов, равно как и другие прорывы сверхвитальности в духе зловещих эксцессов, устраняемых очередным героем чистого экологического разума. Уровень скрытого антропоморфизма здесь немногим отличается от анимизма племени бороро. Тем не менее вампирическое наследие соучаствует в производстве человеческого — порой в глубоко измененном виде, с трудом поддаваясь детекции.
Одним из вторичных модусов вампиризма, прорвавшихся через все гарлические предосторожности, можно считать фаворитизм. Трудность анализа фаворитизма как особого феномена связана с тем, что в нем в значительной мере присутствуют сексуальная и политическая составляющие, способные эффективно маскировать интересующий нас источник: секс и политика суть сами по себе яркие мишени для разоблачения, что и позволяет оставаться вне подозрений последнему плацдарму сверхвитальности. Неплохим материалом для исследования сути фаворитизма может послужить французская литературная традиция. Мишель Монтень, герцог Ларошфуко, госпожа де Севинье, Жан де Лабрюйер и множество менее известных представителей французской моралистики обращались к фаворитизму как сквозной теме (да и в XX столетии можно вспомнить роман-эпопею Марселя Пруста).