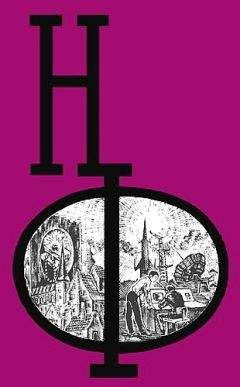Даже после получения результатов судебно-медицинской и токсикологической экспертиз ответ может остаться неясным. «Понимаете, все зависит…» — скажет судебный эксперт. «От чего же?» — спросите вы. «Все зависит от того, что было на уме у покойного. Точнее, от того, каковы были его намерения». Приняла ли умершая таблетки, чтобы хорошо выспаться и пробудиться к жизни с новыми силами, или же она намеревалась уснуть и никогда больше не просыпаться. Однако как выяснить ее намерения после того, как она умерла? Вполне по силам оказывается провести опрос, побеседовать с людьми, которые ее знали, реконструировать личность, исследовать ее образ жизни, особенно в те дни, которые непосредственно предшествовали смерти, уточнить, о чем она говорила и чем была занята. Иными словами, можно провести то, что называется психологической аутопсией.
В начале 1950-х годов ныне покойный Теодор Керфи, работавший главным судебным экспертом Лос-Анджелеса, обратился к ведущим сотрудникам недавно созданного Центра профилактики суицидов (в число которых входили Норман Фарбероу, Роберт Литман и я) за консультацией в связи с некоторыми недавними случаями смерти, причины которых оставались спорными или неясными. Принявшись за это дело, мы встретились и побеседовали с членами семей, друзьями, а также коллегами погибших. У нас не было изначально какого-либо предвзятого мнения в пользу той или иной причины смерти. Нам хотелось прежде всего накопить как можно больше психологических фактов, и одновременно немного смягчить горе и утешить близких. Общий итог наших усилий подтвердил предположение, что дополнительная имеющая отношение к делу информация всегда оказывается полезной. Во многих спорных случаях нам удалось на основе убедительных доказательств помочь судебным экспертам прийти к заключению о той или иной причине смерти. Очевидным оказался и другой факт: наши усилия ни в коей мере не усугубили страдания близких, а наоборот, оказали им помощь и утешение — это следовало из писем, присланных ими позднее в отдел судебной экспертизы.
В последующем в интересах научных исследований мы провели психологическую аутопсию в нескольких случаях несомненных самоубийств, когда причина смерти подтверждалась наличием предсмертной записки, зажатого в руке пистолета, и т.п. В итоге нами было обнаружено, что около 90% самоубийц демонстрировали словесные или поведенческие предвестники самоубийства в течение последней недели жизни. Таким образом, оказалось, что предвестники сопровождают абсолютное большинство суицидов. Но тем не менее некоторые вопросы все же остались открытыми. Например, каким образом можно согласовать тот факт, что у большинства людей, совершающих самоубийство, наблюдаются характерные предвестники, с фактом, казалось бы, противоречащим этому: большинство людей, говорящих о самоубийстве, не совершают его? И как быть с 10% людей, которые добровольно уходят из жизни безо всяких предвестников?
Итак, возникает дилемма: большинство суицидентов предупреждают о своем намерении, а большинство людей, высказывающих мысли о самоубийстве, так и не предпринимают его. Чему же верить? Ответ таков: оба утверждения истинны. Просто они отражают два различных подхода к анализу данных, представляющих проспек-тивную (взгляд вперед) и ретроспективную (взгляд назад) точки зрения. Это можно представить схематически, обозначив обсуждаемые явления кругами. На проспектив-ной схеме круг самоубийств (в количественном отношении) будет крошечным по сравнению с кругом предвестников, в то время как на ретроспективной схеме круг предвестников будет по величине практически равным кругу совершенных самоубийств.
Если взять всех людей, которые угрожают самоубийством, и проследить за ними, скажем, в течение пяти лет, то окажется, к счастью, что лишь очень немногие из них — около 2 или 3% — покончат с собой. Такова проспективная точка зрения. С другой стороны, если исследовать группу людей, на самом деле совершивших самоубийство, и выяснить, какая часть высказывала угрозы свести счеты с жизнью, то, как свидетельствуют наши исследования, проведенные в Лос-Анджелесе, их окажется около 90%. Это отражает ретроспективную точку зрения. Понимая, что оба взгляда на вещи являются теоретически верными, на практике разумнее всего, приняв консервативную (ретроспективную) точку зрения, относиться всерьез к любым разговорам о самоубийстве. При выборе между этими двумя подходами здравый смысл подсказывает нам, что лучше ошибиться в сторону избыточной осторожности.
Другая оставшаяся открытой проблема такова: если около 90% людей, намеревающихся покончить с собой, проявляют характерные предвестники, то остаются еще 10% людей, способных скрывать или маскировать вынашиваемые втайне намерения, находясь на грани самоубийства. Как им это удается? «Он выглядел совершенно нормальным, таким, как всегда», — вот наиболее характерный пример описаний, которые зачастую можно встретить в газетных заметках, посвященных самоубийствам. Эта фраза концептуально обращает наш взор к миру диссимуляции. Это мир тех людей, которые не раскрывают секретов даже (или в особенности) своим супругам. Они ведут замкнутую жизнь, полную нераскрытых тайн. Таким образом, приподняв занавес, мы оказываемся в мире масок и притворства, в мире двойной жизни, обычно свойственной шпионам или тайным агентам, но характерной и для молчаливых, малословных, замкнутых от природы людей; людей, живущих с другими, как кажется со стороны, в полном согласии и любви, однако все же никогда не делящихся своими важнейшими личными планами, например, намерением в ближайшем будущем добровольно уйти из жизни.
Ниже приводится описание переживаний выдающегося современного писателя Уильяма Стайрона. Он рассказывает о том, что, испытывая суицидальные намерения, «…воспринимал всех остальных людей, нормальных и здоровых, как живущих в параллельных, но изолированных мирах».
Мы с женой и еще полудюжиной друзей были приглашены на обед в отличный итальянский ресторан в Нью-Йорке. Я очень боялся этого часа. <…> Ко времени обеда я чувствовал, что буквально задыхаюсь от душевного волнения. Конечно, в тот вечер я мог бы остаться дома, но страдание — оно ведь гнездится в душе, и не так уж важно, где находится телесная оболочка; человек одинаково может испытывать опустошение и одиночество дома, сидя в своем кресле, или заставляя себя есть обед в «Примавере». Я говорю «заставляя себя» есть обед, поскольку аппетит у меня пропал на прошлой неделе до такой степени, что я ел только для того, чтобы поддержать свои силы. Двое из моих сотрапезников были очаровательными друзьями, которых я знал много лет. Я тыкал вилкой в еду, совершенно не разбирая вкуса. В тот вечер, безо всякой видимой причины, предчувствие надвигающейся беды, какой-то роковой опасности было у меня особенно сильным. Но дурацкий стоицизм <…> удерживал от того, чтобы выдавить из себя хотя бы намек на мое внутреннее опустошение. Я болтал с приятелями, дружелюбно кивал, хмурился или в нужные моменты беседы изображал улыбку. Туалет в ресторане располагался недалеко от обеденного зала, нужно было только спуститься по лестнице, покрытой ковром, на один пролет. По пути туда фантазии о самоубийстве, которые ежедневно вторгались в мои мысли на протяжении нескольких недель и которые я усиленно отгонял во время застольной беседы, вдруг нахлынули на меня бурным потоком. Избавление от этого мучения (но как? и когда?) превратилось в самую насущную потребность… Я с отчаянием подумал о том, смогу ли я совладать с оставшейся частью вечера, не выдав своего состояния. На обратном пути в зал я очень поразил самого себя, выразив свое страдание вслух внезапным восклицанием, чего обычно никогда не позволил бы сделать из-за стыда. «Я умираю», — простонал я, вызвав явное смятение у мужчины, проходившего мимо меня по лестнице. Эти случайно вырвавшиеся у меня слова были одним из грозных предзнаменований моего стремления к саморазрушению; уже через неделю мне предстояло в окаменелом неверии писать предсмертные записки.
Через несколько месяцев <…> двое из моих сотрапезников вспоминали, что в тот вечер внешне я вел себя совершенно нормально. Монументальный апломб, который я демонстрировал, свидетельствовал о почти уникальном внутреннем характере этой боли <…> боли, которая практически не поддается описанию, и потому для всех, кроме страдающего от нее, является почти бессмысленной.
Похоже на то, что драма самоубийства как бы автономно пишет сама себя, как если бы пьеса имела свое собственное сознание. Поэтому нас должно отрезвлять осознание того факта, что, поскольку люди, сознательно или нет, способны успешно диссимулировать, то ни одна программа превенции самоубийств не может быть эффективной на 100%.