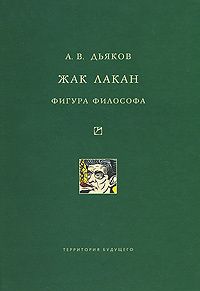Разумеется, всего этого в самой нашей истории нет. Речь не идет о том, чтобы извлечь из нее какую-нибудь премудрость относительно Истории с большой буквы. Но даже ничему не уча нас, она указывает на то, что смысловой ход делается в направлении снижения ценности, в направлении изгнания завораживающего нас Элемента.
В каком направлении оказывает эта история свое действие? И в каком отношении она удовлетворяет нас, доставляет нам удовольствие?
Введение в наши значения означающего оставляет поля, в силу которых мы неизменно пребываем у него в рабстве. По ту сторону связей, которые цепочка означающих для нас обеспечивает, остается нечто еще — и оно от нас ускользает. Сам факт, что спиъ-имертвые! раненые! с самого начала служат этой истории лейтмотивом, вызывают у нас только смех, достаточно ясно свидетельствует о том, до какой степени заказан нам доступ к реальности, когда мы пытаемся подобраться к ней окольным путем означающего.
История эта послужит нам в данном случае просто-напросто отправным пунктом. Фрейд подчеркивает, что когда дело идет о передаче остроты и об удовлетворении, которое она несет, участвуют в этом всегда трое. Комичное может разыгрываться между двумя, для остроты необходимы трое. Другой, выполняющий роль второго, занимает различные позиции. Иногда это второе лицо в нашей истории, причем неизвестно, да и неважно, студент это или экзаменатор. И в то же время это вы сами — в то время, пока я вам историю эту рассказываю.
На самом деле в первой части важно, чтобы вы позволили немножко поводить себя за нос. История сразу же возбуждает ваши симпатии, будь то к студенту или к экзаменатору, она либо увлекает вас, либо вызывает протест — хотя в данном случае цель ее, по правде говоря, не в том, чтобы вызвать у нас чувство протеста, а в том, чтобы захватить нас увлекательным поединком студента и экзаменатора — поединка, в котором этот последний должен поймать студента в ловушку. Что-то похожее всегда намечается и в историях игривого или неприличного свойства. На самом деле задача их не столько в том, чтобы предотвратить с вашей стороны сопротивление или неприятие, сколько наоборот, в том, чтобы их активно задействовать. Когда история, которую начали вам рассказывать, обещает быть игривого свойства, рассказчик не пытается затушевать то, что может вызвать у вас протест, — напротив, уже с самого начала что-то в этой истории предупреждает вас, на какую почву вы тут вступаете. Поняв это, вы настраиваете себя либо на согласие, либо на сопротивление, но в люоом случае что-то внутри вас ту или иную позицию в плоскости противостояния уже заняло. В данном же случае вы позволяете себе увлечься той показной и увлекательной стороной дела, о которой сама принадлежность нашего предмета порядку и регистру истории заранее наводит на мысль.
Конечно, то неожиданное, что случается в последний момент, обязательно лежит в плоскости языка. В данном случае словесная игра проработана гораздо тщательнее. Более того, она разложена на составляющие таким образом, что перед нами, с одной стороны, чистое означающее, в данном случае лошадь, а с другой — элемент игры означающих. Элемент этот предстает здесь в форме клише, обнаружить которое гораздо труднее, но из которого ясно, тем не менее, что более в истории искать нечего. Удивительна здесь сама
принципиальная двусмысленность, сам переход от одного смысла к другому посредством означающего носителя — то самое, о чем примеры, которые я раньше вам приводил, какраз и свидетельствуют. Здесь налицо дыра, зияние — оно-то и приводит вас к тому этапу, где то сообщаемое, что поражает вас, принимает облик остроты.
Как правило, удар приходится не с той стороны, куда ваше внимание — или сочувствие, или негодование, — было отвлечено, причем как именно нас отвлекали — нарочитой бессмыслицей, комическими эффектами или эффектами игривого соучастия в провоцирующей возбуждение непристойности повествования, не имеет ровно никакого значения. Надо сказать, что игра противостояния эта является всего-навсего подготовкой, позволяющей тому воображаемому, продуманному, сочувственному, что всегда бывает в общении задействовано, распределиться на два противоположных полюса, — подготовкой к реализации определенной тенденции, где субъект выступает как второе лицо. Все это покуда лишь фундамент самой истории. Все, что привлекает внимание субъекта, все, что пробуждается в нем на сознательном уровне, представляет собой лишь базу, необходимую для перехода в другой план — план, который всегда предстает как более или менее загадочный. Именно в этом плане происходит неожиданность — и вот тут-то и оказываемся мы на уровне бессознательного.
Поскольку все, о чем идет речь, всегда связано с механизмом языка как таковым, связано на том уровне, гдс Другой взыскует нас и нами взыскуется, где с Другим сходятся вплотную, где Другой становится целью, которая в остроте оказывается достигнута, — как нам этого Другого все-таки определить?
3
Остановимся ненадолго на нашей схеме, чтобы высказать для начала несколько простых вещей и азбучных истин.
Схему эту можно использовать как некую решетку или координационную сетку, позволяющую отследить в общих чертах означающие элементы как таковые.
Взяв ряд исходных модусов или форм в качестве основы для классификации различных острот, мы придем к какому-то перечислению, например: игра слов; каламбур в собственном смысле слова; игра слов, основанная на смысловом преобразовании или сдвиге; острота, основанная на смысловом преобразовании или сдвиге; острота, основанная на незначительном изменении слова, достаточном, чтобы представить что-то в неожиданном свете или обнаружить в нем новое, неожиданное измерение. Какие бы классификационные показатели мы при этом ни выбрали, мы обязательно, вслед за Фрейдом, стремимся свести их к терминам, которые вписывались бы в регистр означающих. А теперь представим себе некую машину.
Машина эта расположена где-то между точками А и М. Она принимает данные, приходящие к ней с обеих сторон. Она вполне способна разобраться в способах, которыми происходит формирование слова фамиллионъярно или превращение золотого тельца в тельца на скотобойне. Предположим, что она достаточно совершенна, чтобы провести исчерпывающий анализ всех означающих элементов. Сможет ли она уловить остроту и ее как таковую удостоверить? Провести необходимые вычисления и ответить, что да, мол, это острота? То есть подтвердить соответствие сообщения коду, как и подобает это сделать, если мы в пределах — по крайней мере, возможных — того, что именуется остротой, хотим остаться.
Мы придумали эту штуку исключительно шутки ради, так как об этом не может, само собой разумеется, быть и речи. Но что отсюда следует? Довольно ли будет сказать, что нам не обойтись здесь без человека? Оно, может быть, и так, и мы могли бы таким ответом удовлетвориться. В целом, он нашему опыту более или менее соответствует. Но учитывая, что существование бессознательного с его тайнами мы принимаем всерьез, человек является ответом, который нам предстоит прежде разложить на его составляющие.
Прежде всего следует сказать, что нам необходимо иметь перед собой реального субъекта. На самом деле острота играет свою роль внутри смысла, в направлении смысла. А помыслить себе этот смысл можно, как мы уже показали, лишь в связи со взаимодействием означающего и потребности. Именно отсутствие измерения потребности мешает, препятствует машине каким бы то ни было образом наличие остроты удостоверить.
Можем ли мы сделать отсюда вывод, что реальный субъект этот должен иметь потребности, подобные нашим? Формулировать с самого начала подобное требование для нас вовсе не обязательно. На самом деле никакого указания на потребность в остроте не содержится. Наоборот — острота скорее размечает для нас ту дистанцию, что существует между потребностью, с одной стороны, и тем, о чем идет речь в дискурсе, с другой. Уже поэтому то, что артикулировано в дискурсе, подсказывает нам целую серию реакций, бесконечно далеких от того, что может рассматриваться как потребность в подлинном смысле этого слова.
Итак, вот наше первое положение — необходимо, чтобы субъект был субъектом реальным. Богом, животным или человеком? Мы об этом ничего не знаем.
Подтверждением моих слов служит то, что рассказы о сверхъестественном, которые не зря же бытуют в фольклоре человечества повсеместно, далеко не исключают возможности с феей или чертом — то есть субъектом, отношения которого внутри Реального, ему свойственного, заведомо отличны от тех, что формируются человеческими потребностями — шутить шутки. Вы возразите, конечно, что существа эти чисто мысленные, словесные, и потому образ их отмечен более или менее человеческими чертами. Но в том-то и дело, что моей мысли это нисколько не противоречит. На самом деле отношения, в которые мы вступаем, определяются следующими двумя условиями. Прежде всего мы имеем дело с реальным субъектом, то есть с живым существом. С другой стороны, это живое существо понимает язык и, более того, обладает запасами материала, пригодного для словесного обмена, — всеми теми манерами, приемами, оборотами и терминами, без которых об общении с ним посредством языка нечего было бы и думать.