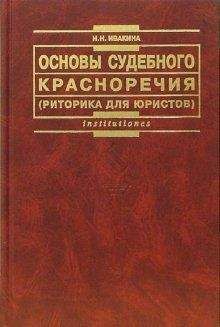Небрежный слог оратора в этом коротком, правдивом и неприкрашенном рассказе как будто намеренно подчеркивает неприглядную прозу жизни. Но художник видит в ней нечто значительное и, сразу меняя тон, обращает слушателей к более широкому ее пониманию.
"Дело было сделано. Дело кровавое. Дело, требовавшее не только физической силы, но и огромного подъема душевного. Он сам стоял перед ним, бессильный и жалкий, точно перед созданием чьего-то могучего духа, чуждого ему самому. По отзыву всех знавших его, он – натура пассивная, мягкая, дряблая, почти безвольная. Он всегда и всем уступал. Жена била его по щекам, когда хотела".
– Как же это случилось? – спрашивает оратор и в немногих простых словах рассказывает печальную историю супружества; она заканчивается безотрадным описанием. По удостоверению свидетелей, покойная Кашина уже так втянулась в свою пьяную и развратную жизнь, что не в силах была изменить ее.
"С утра он напивался; дети остаются весь день на руках случайной няньки, она же шатается по квартире без дела, шумит, ругается, иногда бегает куда-то. Прислуга подозревает, что в дворницкую. Подчас она еще дразнит мужа: "А я к Ваське пойду!" Он отвечает ей: "Вот дура", за что с ее же стороны следуют пощечины и ругательства. Она увлекает его пьянствовать вместе, и он начинает попивать".
Оратор напоминает, что супружеская жизнь требует взаимных уступок, и признает это естественным и неизбежным.
"Все можно стерпеть и все можно вынести во имя любви, во имя семейного мира и благополучия: и несносный характер, и воинственные наклонности, и всякие немощи и недостатки. Но инстинктивно не может вынести человек одного: нравственного принижения своей духовной личности и бесповоротного ее падения. Ведь к этому свелась супружеская жизнь Кашиных. Мягкость, уступчивость мужа не помогали. Наоборот, они все ближе и ближе придвигали его к нравственной пропасти. Он уже стал попивать вместе с женою, дети были в забросе. Еще немного, и он, пожалуй, делился бы охотно женою с первым встречным, не только с Василием Ладугиным… Он бы стал все выносить. Мрачная, неприглядная клоака, получавшаяся из семейной жизни благодаря порокам жены, уже готова была окончательно засосать и поглотить его".
"Но тут случилось внешнее событие, давшее ему новый душевный толчок. Умер любимый отец, предостерегавший его от этого супружества. Кашин почувствовал себя еще более одиноким и жалким, еще более пришибленным и раздавленным. В вечер накануне убийства он плакал, а жена пьяная плясала. Ночью случилось столкновение с женой, новая пьяная ее бравада: "Я к Ваське пойду!" – и он не выдержал, "не стерпел больше": он зарезал ее".
"Господин товарищ прокурора отрицает здесь наличность "умоисступления", подлежащего оценке психиатров-экспертов; я готов с ним согласиться. Тут было не исступление ума, не логическое заблуждение больного мозга, тут было нечто большее. Гораздо большее! Тут было исступление самой основы души – человеческой души, нравственно беспощадно приниженной, растоптанной, истерзанной! Она должна была или погибнуть, или воспрянуть хотя бы ценою преступления; она отсекла в лице убитой от самой себя все, что мрачило, топтало в грязь, ежеминутно и ежесекундно влекло к нравственной погибели. И совершил этот подвиг ничтожный, слабовольный, бесхарактерный Кашин…"
Художественная сила этой речи не требует пояснения; технический расчет заключается в том, что защита проведена в высоте, настолько приподнятой над обвинением, что прокурору не дотянуться до защитника, а присяжные, увлеченные в "пространство холодное", где захватывает дух и сжимается сердце, не захотят отрезвиться, не захотят действительности. Логически возразить на эту защиту очень легко: убийство – не подвиг, а преступление. Как поэт, как художник, оратор волен говорить, что жена тянула мужа в бездну. Но ведь тянула не рукой, не веревкой, не цепью; ведь и бездны никакой не было; это – устарелые общие места; Кашину стоило уйти или прогнать жену, и он освободился бы от ее растлевающего влияния, очистился бы истинным подвигом души, а не чужой кровью. Обвинитель мог сказать все это; но присяжные не стали бы слушать его и во всяком случае не пошли бы за ним.
Охотник спускает сокола с цепи; сокол летит под облака, вьется над полем, гонясь за испуганной дичью, и после стремительного удара послушно возвращается на плечо хозяина. Оратор ведет свою мысль по страницам дела, вчитываясь в каждую строку, пригибаясь к сумеркам жизни, где идет работа в поте лица своего и "ползет окровавленное злодейство", но временами он поднимает голову, и смелая мысль его в свободном полете несется ввысь, к самому солнцу. Но она не уйдет от человека; он опустил голову, и она опять в его власти, он господин ее.
Года три тому назад мне пришлось прослушать в нашем окружном суде одно дело об угрозе полицейскому чиновнику при исполнении им служебных обязанностей. Где-то на Кирочной улице, на заднем дворе, в подвале, была иноверческая молельня; дворник сообщил об этом в участок; закон о свободе вероисповеданий еще не существовал; помощник пристава отправился на место, чтобы составить протокол. Когда он постучался в квартиру, хозяин, мелкий ремесленник, показался на пороге с топором в руке и грубо крикнул, что никого не впустит к себе и зарубит всякого, кто попытается войти. Полицейские ушли и в участке составили акт по поводу этой угрозы. Происшествие, как видите, самое заурядное; наказание за проступок по 286 ст. Уложения о наказаниях – тюрьма до четырех месяцев или штраф не более ста рублей. Товарищ прокурора сказал: поддерживаю обвинительный акт. Заговорил защитник, и через несколько мгновений вся зала превратилась в очарованный, встревоженный слух. Защитник говорил нам, что люди, оказавшиеся в этой подвальной молельне, собрались туда не для обычного богослужения, что это был особо торжественный, единственный день в году, когда они очищались от грехов своих и находили примирение со Всевышним, что в этот день они отрешались от земного, возносясь к божественному; погруженные в святая святых души своей, они были неприкосновенны для мирской власти, были свободны даже от законных ее запретов. И все время защитник держал нас на пороге этого низкого подвального хода, где надо было в темноте спуститься по двум ступенькам, где толкались дворники и где за дверью в низкой убогой комнате сердца молившихся уносились к Богу… Я не могу передать здесь этой речи и впечатления, ею произведенного, но скажу, что не переживал более возвышенного настроения. Заседание происходило вечером, в небольшой тускло освещенной зале, но над нами расступились своды, и мы со своих кресел смотрели прямо в звездное небо, из времени в вечность.
Вы назовете меня софистом, вы скажете, что этот пример никуда не годится: полицейский протокол совпадал с исключительным религиозным торжеством. Я отвечу, что ремесленник не заметил бы этого совпадения или, заметив, ничего не сумел бы извлечь из него; а оратор-художник вложил в него одну из высших идей, доступных уму человека. Хотите другой пример? Вспомните, что кардинальный вопрос о границах законной власти присяжных заседателей, вопрос о возможности оправдания сознающегося подсудимого при отсутствии законных оснований невменения, был недавно разрешен не по делу о каком-нибудь страшном убийстве, не в важном политическом процессе, а по делу мещанина Семенова, обвинявшегося в краже.
Каждое уголовное дело может быть для оратора желанным случаем проявить всю присущую ему творческую силу, дав в нем отражение своей личности, наложив на него свой отпечаток. Но чтобы речь его была истинно художественным произведением, необходимо еще одно условие: оратор должен обладать живой фантазией. Это драгоценное свойство в детстве есть у каждого из нас; с годами мы, к сожалению, часто теряем его. Но без этого дара, хотя бы в малой доле, мы не можем создать ничего в области искусства. В книжке сказок Андерсена есть рассказ о маленьком домовом, который жил в мелочной лавке. Он видел однажды, как студент, покупавший колбасу, выпросил у лавочника старую рваную книжку, служившую для обертки товара, и бережно унес ее к себе на чердак. Ночью, когда все в доме улеглись спать, домовой пробрался наверх к двери студента и заглянул в щелку. Студент сидел за столом и читал книгу, взятую у лавочника. Обыкновенно у него в комнате бывало очень темно; но на этот раз – о чудо! – из книги огненным стволом выросло роскошное дерево с золотыми ветками; они поднимались до самого потолка и протянулись над головою юноши; на них сверкали цветы невиданной красоты и качались райские птицы, распевая неслыханные песни; вся убогая каморка была залита светом, благоуханиями и дивной музыкой…
Вы любите людей, вы чувствуете поэзию жизни, вы хотите быть оратором-художником. Возьмите у секретаря ваше дело в истрепанной синей обложке, положите его у себя на столе и вечером, в тиши своего кабинета, прочитайте его не спеша; прочитайте раз, другой, третий. На каждой странице, где-нибудь в уголке, вы заметите несколько букв: это называется скрепою следователя. Читайте дело, и пусть на каждой странице его явится ваша скрепа, загорится и засветится ваша мысль и ваше чувство; и если перелистывая его измятые страницы, вы на минуту станете поэтом, если раскинутся над вами пламенные ветки волшебного дерева, распахнутся крылья божественной фантазии, не бойтесь этой минуты! – придя на суд, вы скажете вашим слушателям настоящую речь.