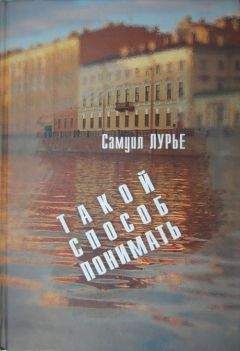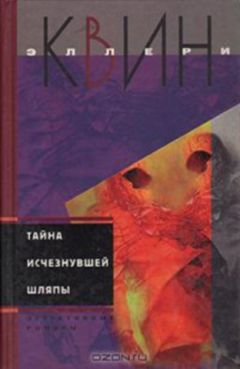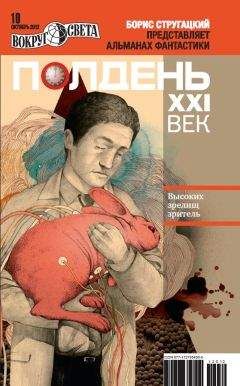Но и то: скучно вникать и втолковывать, чувствуя себя единственным и последним взрослым человеком на планете. Попробуйте перевести на современный английский язык такое абсолютно необходимое слово, как пошлость, когда оно и в русском-то утратило смысл.
"В современной России - стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил - перестали замечать пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой".
Даже грустно. Как это у Пушкина? "Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство". Хотя какой же Набоков иностранец?
"Ты, который не на привязи, - продолжает Пушкин в письме к Вяземскому, - как можешь ты оставаться в России? Если Царь даст мне свободу, то я месяца не останусь... В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница..."
Цари сохранили Пушкина для пули Дантеса, для школьной программы. Не дай Бог, стал бы невозвращенцем - и тому же Набокову нечего было бы преподавать, разве что В. В. действительно знал толк в лаун-теннисе.
Пушкин мечтал об английских журналах, о парижских театрах и борделях тщетно.
В следующем веке сотни тысяч людей покинули под видом крыс этот славный военный корабль, где дышится так легко. Вот один из них, эмигрант доселе (если не ошибаюсь) безвестный - В. Любарский (не исключено, что псевдоним) издал в Петербурге ценную книжку, - только название неудачное: "Из Америки с познанием и сомнением". Аннотация предупреждает, что это, видите ли, история одной иллюзии. Тут монтаж из дневников и писем - несомненно подлинных, - так сказать, хроника погружения в другую жизнь. Герой с каждым днем все благополучней, но все несчастней, - наверное, потому, что настоящего советского интеллигента не отмоешь добела.
Лишние люди, необходимые люди, бедный мыслящий тростник! Набоков не поверил бы, но даже здесь, причем даже в семидесятые годы, кое-кто понимал, что такое пошлость, - от нее и бежали, от ее всевидящего взгляда, всеслышащих ушей, мерзкого неумолчного голоса, - напрасно! Что ей океан! Одержимый неотвязным даром слова и тревожной рефлексией бывший врач из бывшего Ленинграда нелеп, смешон и жалок в Америке - и везде - примерно как Алеко в цыганском таборе.
История иллюзии! В самом деле, можно ли было предположить, что и под крышами Нью-Йорка живут мучительные сны, что и в правовом государстве от судеб нет защиты, что всюду неврозы роковые, а счастья на свете нет - и покоя, и свободы, - разве что в текстах Пушкина и Набокова, Набокова и Пушкина...
Письмо XLII
12 июня 1997
Булат Окуджава умер. Писатель безупречного вкуса, артист необыкновенного предназначения. Ему было суждено вернуть в моральный бюджет страны - ценности, без которых она задыхалась. Лет тридцать пять тому назад он соблазнил целое поколение полуроботов и полудикарей - интонациями человеческого благородства. Избавил очень, очень многих от худшего из одиночеств, дав мертвому советскому местоимению "мы" новую жизнь: с тех пор и до настоящей минуты это слово действительно обозначало нас, какими мы чувствовали себя, пока звучал в нас голос Окуджавы.
Было и такое счастье, условно называлось - любить Окуджаву. Любовь, конечно, не пройдет.
Судьба, судьбы, судьбе, - подпевали мы, - судьбою, о судьбе.
Письмо XLIII
20 июня 1997
Легенда, составленная стараниями так называемых очевидцев, гласит: Л. Добычина убили советская власть и Алексей Толстой.
Но вот - года полтора уже назад - вышла книжка: "Писатель Леонид Добычин. Воспоминания, статьи, письма". Название не совсем аккуратное. Текстов Л. Добычина тут совсем немного: десятка два писем. Остальное тексты о нем, в частности - три не слишком содержательных мемуара, много-много литературоведческих, так сказать, статеек (из них одна яркая: М. Золотоносов - "Книга "Л. Добычин": романтический финал") и две драгоценные публикации: речь А. Н. Толстого на общем собрании ленинградских писателей 5 апреля 1936 года (публикация В. С. Бахтина; он же - составитель сборника) и выдержки из донесений в Большой Дом, подписанных псевдонимом "Морской" (публикация А. В. Блюма).
Эти-то публикации, а также комментарии к ним - легенду разрушают.
Реальная картина выглядит, оказывается, совсем по-другому: советской власти в 1936 году на Л. Добычина было пока еще наплевать, убийств она в литературе на тот год не намечала - поручила кой-кому пугнуть кой-кого, а исполнители перестарались, причем А. Толстой не успел себя проявить, у него - алиби.
То есть дело было так. Статью в "Правде" - "Сумбур вместо музыки" (28 января) ЦК правящей партии постановил обсуждать на собраниях творческой интеллигенции: пусть знают, что главное для страны - покончить с формализмом.
Композиторов, поэтов, живописцев - не всех, а кто познаменитей, пообразованней, поталантливей - и опять-таки не всех, а только имевших наглость возомнить, будто культура не является домработницей идеологии, следовало публично раздеть и оплевать.
Это был тонко задуманный сеанс естественного отбора: кто из намеченных жертв струсит достаточно унизительно, чтобы заслужить право на смерть в собственной постели; кто из глумящейся толпы бессовестен так надежно, что достоин доверия; прочие пусть трепещут, и пусть все боятся один другого и презирают.
В Москве, да и повсюду, пошло как по маслу, настоящий фестиваль низости, Олимпийские игры: сегодня Ю. Олеша обличает своего любимого Шостаковича, завтра, глядишь, Б. Пастернак сочиняет стишки о Сталине - о "гении поступка", - только в Ленинграде с самого начала не заладилось.
Было совершенно ясно, кого тут следует опозорить: Тынянова, Эйхенбаума в первую очередь (формалисты отпетые), а дальше само пойдет... Ахматова, Зощенко, О. Форш - да мало ли - недобитых интеллигентов среди местных литераторов было сколько угодно.
Но здешние исполнители вздумали родную партию перехитрить - не то симпатизировали пациентам, не то боялись отпора и рассудили, что в пылу погрома сами пропадут. И поставили под шпицрутены безвестного дебютанта из провинции, благо он только что напечатал не совсем заурядную книжку.
Вот на какую роль пригодился Л. Добычин.
И 28 марта критики Ариман и Латунский - виноват: Е. Добин и Н. Берковский - с наслаждением и с блеском стерли его в порошок часа за полтора.
Добин был мыслитель без затей: три класса гимназии, сочинил книгу "За большое искусство большевизма", ответственный редактор "Литературного Ленинграда". Берковский, напротив того, был очень образованный, остроумный, даже умный - все понимал, но как бы наоборот.
(Вы спросите: как это? Вот пассаж из его книги "Текущая литература":
"Мандельштам покамест только писатель о культурном эпилоге прошлого. Настоящего и будущего он не достигает. Зато замечательный Олеша... в своей "Зависти" явил себя как мастер расправы над прошедшею культурой и как отличный лазутчик в культуру будущего".
Добин и Берковский, короче говоря, тоже явили себя отличными мастерами расправы, и каждый в своем стилистическом ключе. Добин напирал на то, что Л. Добычин - политический враг, а Берковский намекал - духовный мертвец.
Ленинградская литература в полном составе - кони, ладьи, слоны внимала, затаив дыхание: удастся или нет эта смелая жертва пешки?
Не дослушав, Л. Добычин встал, пробормотал невнятное про невиновность и, шатаясь, вышел, как в стихах Анны Ахматовой. Дома сказал другу, тоже писателю (стукачу "Морскому"), что уезжает из города и уходит из жизни, поскольку его все равно подвели к НКВД.
Исчезновение Л. Добычина, слухи о его самоубийстве фактически сорвали дискуссию о формализме в Ленинграде.
Ценой его гибели ленинградские писатели заработали отсрочку.
Это было по-своему справедливо: как-никак все они запятнали себя участием в убийстве и предательством. Все вместе, все до одного, а не только горстка приятелей несчастного, которых поддразнил А. Н. Толстой через неделю не без злорадства: "И они предали, не желая ломать себе шею из-за того, что невозможно было защищать". А как жаль, что сгорел Дом писателей на Воинова-Шпалерной, где все это произошло, - в таком красивом зале с белыми колоннами, с купидонами под карнизом!
" - Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом".
Письмо XLIV
6 февраля 1998
Кто же спорит - прекрасно, что Александр II отменил крепостное право. И даже всеобщая так называемая грамотность, несомненно, принесет отечеству рано или поздно пользу. А все же неприятно встретить в газете, которую помнишь совсем еще молодежной, словосочетание типа: "Любопытная, но ненаблюдательная Софи впервые сообщает" и т. д.