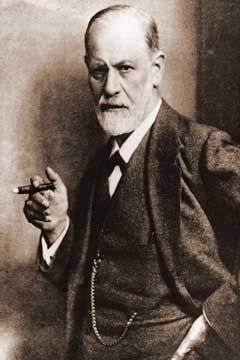настоящего времени. Анализ должен был бы вестись точно так же, как и тот, который в наивной вере принимает такие фантазии за правду. Только в конце анализа, после раскрытия этих фантазий, появилось бы различие. Тогда мы бы сказали больному: «Ну ладно; ваш невроз протекал так, как будто в свои детские годы вы восприняли подобные впечатления и продолжили фантазировать. Но вы, наверное, понимаете, что этого быть не может. Это были продукты деятельности вашей фантазии, которые должны были отвлечь вас от стоявших перед вами реальных задач. Теперь позвольте исследовать нам, какие это были задачи и какие соединительные пути существовали между ними и вашими фантазиями». После того как с этими инфантильными фантазиями будет покончено, можно было бы приступить ко второй части лечения, обращенной к реальной жизни.
Сокращение этого пути, то есть изменение проводившегося до сих пор психоаналитического лечения, в техническом отношении было бы непозволительным. Если не довести до сознания больного эти фантазии в их полном объеме, то он не сможет распоряжаться по своему усмотрению с ними связанным интересом. Если его от них отвлечь, как только появляется догадка об их существовании и общих контурах, то этим только поддерживается работа вытеснения, благодаря которой они стали неприкосновенными для всех усилий больного. Если преждевременно их для него обесценить – скажем, открыв ему, что речь идет лишь о фантазиях, которые реального значения не имеют, – то с его стороны никогда не встретишь содействия, чтобы подвести их к сознанию. Поэтому при правильном образе действий аналитическая техника не должна подвергаться никаким изменениям, как бы ни оценивали эти инфантильные сцены.
Я упоминал, что при понимании этих сцен как регрессивных фантазий в его поддержку можно сослаться на некоторые фактические моменты. Прежде всего на следующий: эти инфантильные сцены – насколько богат мой нынешний опыт – не репродуцируются в ходе лечения в виде воспоминаний, а являются результатом конструкции. Наверное, благодаря этому признанию кое-кому этот спор уже покажется разрешенным.
Мне не хочется быть неправильно понятым. Каждый аналитик знает и множество раз убеждался на опыте, что при удачном лечении пациент приводит большое количество спонтанных воспоминаний из своего детства, к появлению которых – возможно, к появлению в первый раз – врач чувствует себя совершенно непричастным, поскольку никакими попытками конструкции он не навязывал больному подобного содержания. Эти ранее бессознательные воспоминания отнюдь не должны всегда быть истинными; они могут быть таковыми, но зачастую они представляют собой искаженную правду, пронизаны вымышленными элементами, точно так же, как спонтанно сохранившиеся в памяти так называемые покрывающие воспоминания. Я хочу только сказать: сцены, такие как у моего пациента, из столь раннего времени и с таким содержанием, которые затем претендуют на столь исключительное значение в истории случая, как правило, не репродуцируются как воспоминания, а их приходится с трудом и постепенно разгадывать и конструировать из суммы намеков. В качестве аргумента также будет достаточно, если добавлю, что такие сцены в случаях невроза навязчивости не осознаются в виде воспоминания, или ограничусь указанием на один этот случай, который мы здесь изучаем.
Я не считаю, что эти сцены обязательно должны быть фантазиями, потому что они не возвращаются в виде воспоминаний. Мне кажется совершенно равноценным воспоминанию, что они – как в нашем случае – заменятся сновидениями, анализ которых постоянно приводит к этой же самой сцене, которые в неустанной переработке репродуцируют каждую часть ее содержания. Видеть сны – это также и вспоминать, пусть и в условиях ночного времени и образования сновидений. Этим постоянным возвращением в сновидениях я объясняю себе, что у самих пациентов постепенно создается твердое убеждение в реальности этих первичных сцен, убеждение, которое ни в чем не уступает убеждению, основанному на воспоминании [93].
Правда, противникам незачем отказываться от борьбы с этими доказательствами как от бесперспективной. Сны, как известно, податливы [94]. А убеждение анализируемого может быть следствием суггестии, для которой по-прежнему находится роль во взаимодействии сил аналитического лечения. Психотерапевт старого закала внушил бы своему пациенту, что тот здоров, преодолел свои торможения и т. п.; психоаналитик же внушает ему, что тот ребенком имел то или другое переживание, которое, чтобы выздороветь, он теперь должен вспомнить. Вот и вся между ними разница.
Проясним для себя, что эта последняя попытка противников дать объяснение сводится к гораздо более основательному упразднению инфантильных сцен, чем заявлялось вначале. Они должны были быть не действительными событиями, а фантазиями. Теперь становится очевидным: фантазиями не больного, а самого аналитика, которые он в силу каких-то личных комплексов навязывает анализируемому. Правда, аналитик, который слышит этот упрек, для своего успокоения покажет, как постепенно возникла конструкция этой якобы им внушенной фантазии, насколько все же независимо от врачебного воздействия во многих пунктах она формировалась, как начиная с некоторой фазы лечения все, похоже, сходилось к ней и как теперь в синтезе от нее распространяются самые разные поразительные эффекты, как большие и самые маленькие проблемы и особенности истории больного находят свое разрешение в одном этом предположении, и выставит как довод, что не считает себя таким проницательным, чтобы придумать событие, которое одновременно отвечало бы всем этим требованиям. Но и эта защитная речь не повлияет на противоположную сторону, которая на собственном опыте не испытала анализа. Изощренный самообман – прозвучит с одной стороны, тупость суждения – с другой; вынести решение будет нельзя.
Обратимся к другому моменту, на который опирается понимание противниками сконструированных инфантильных сцен. Он заключается в следующем: все процессы, которые привлекались для объяснения таких спорных образований, как фантазии, действительно существуют и они должны быть признаны очень важными. Отвращение интереса от задач реальной жизни [95], существование фантазий как замещающих образований для несовершенных действий, регрессивная тенденция, выражающаяся в этих творениях, – регрессивная больше чем в одном значении, поскольку одновременно происходит отход от жизни и возврат к прошлому, – все это соответствует действительности и регулярно подтверждается анализом. Следовало подумать, что было бы также достаточно объяснить мнимые ранние детские реминисценции, о которых идет речь, и в соответствии с экономическими принципами науки это объяснение имело бы преимущество перед другим, которое не может обойтись без новых и странных предположений.
Позволю себе в этом месте обратить внимание на то, что возражения в современной психоаналитической литературе обычно делаются по принципу pars pro toto [96]. Из очень сложного по своему составу ансамбля выхватывают часть действующих факторов, провозглашают их истиной и в пользу его отвергают другую часть и целое. Если присмотреться к тому, какой группе отдается это предпочтение, то оказывается, что именно той,