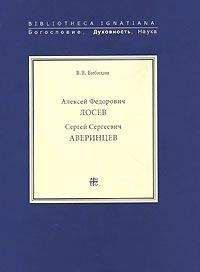Однако этого не произошло. Христианский аскетизм с его глубочайшим недоверием к оргиастическому телесному экстазу, к безотчетным импульсам и позывам крови («кровяному разже- нию», как будут говорить православные мистики) не мог потерпеть храмового танца. Идея этого танца осталась, но в «снятом», преображенном, спиритуализированном виде, лишь как намек и символ, не как физическая реальность; например, в чин крещения и в чин венчания греческой церкви входит шествие по кругу вокруг купели и соответственно вокруг аналоя, что представляет отвлеченный знак кругового хоровода [32] . Подобным же образом в знаменитом пасхальном каноне Иоанна Дамаскина (ум. ок. 750) будет говориться о пляске «богоотца Давида» «перед ковчегом завета» (песнь 4), о праздновании Пасхи «ударами веселой ноги» (ауоЛАоцёУсо яоб(, Kpooovxeq, песнь 5); в тропаре на праздник Троицы брат Иоанна Дамаскина Косьма Маюмский назовет дух святой «хорегом жизни», то есть устроителем вселенского хоровода, всемирных игр бытия [33] . Мы видим, таким образом, что дионисийское настроение, пронизывающее приведенный выше гимн из «Деяний апостола Иоанна» [34] , нашло свое место в позднейшей православной византийской гимнографии; но оно было строго обуздано и ограничено непреступаемыми пределами мистической аллегории. Любые попытки дать ему чувственную реализацию повели бы в границах христианского обихода к извращениям, известным по позднейшему феномену хлыстовства; поэтому на них было наложено вето. Восторжествовала эстетика тихой сосредоточенности, «духовного трезве- ния»; дионисийский хмель претворяется в то, что еще иудейский мистик Филон Александрийский (I в. до н. э. — I в. н. э.) называл «трезвенным опьянением» — цт|6г| тцр6Ало<;.
Возвратимся, однако, к гимну из «Деяний апостола Иоанна». Как может убедиться читатель, гностический, неправославный характер этого гимна определяется отнюдь не только его «хороводной» образной системой и даже не только его богословской терминологией (например, упоминанием «Огдо- ады», то есть совокупности тех восьми «эонов», или духовных первоначал сущего, о которых учил гностик II века Василид, между прочим, тоже писавший какие-то «псалмы»). Важнее другое. Христос, каким его изображает автор апокрифа, не есть только спаситель, всецело светлый и чистый; он и сам нуждается в просветлении и спасении, в искуплении, в «воссоединении», которые приносит людям [35] . Он — не только субъект, но и объект акта спасения, так что глаголы, описывающие этот акт, применяются к нему не только в действительном, но и в страдательном залоге [36] . Этот образ «спасенного спасителя» [37] больше напоминает Сиддхартху Гаутаму, становящегося прозревшим Буддой, нежели Христа ортодоксальной веры. Родственное представление о ниспосланном свыше посланце, который, однако, в стране мрака сам подпадает под власть сил мрака и должен быть выведен из забытья пробуждающим окликанием с родины, лежит в основе другого замечательного памятника неортодоксальной христианской гимнографии — так называемой «Песни о жемчужине», дошедшей в составе апокрифических «Деяний апостола Фомы» (написаны по-сирийски в первой половине III века н. э., вскоре переведены на греческий язык).
Автор апокрифа отправляется от символа многоценной жемчужины — символа, крайне характерного для раннехристианской и византийской религиозной поэзии [38] . Еще в одной из притч Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, 13, 45—46) жемчужине придан смысл духовной ценности, ради которой ничего не жаль отдать; эта ценность — Царство Небесное. Позднее в гностических, но также и ортодоксальных кругах под жемчужиной начинают подразумевать самого Христа: как будет объяснять в XI веке Феофилакт Болгарский, подводя итоги патристической эксегезы, «„многие жемчужины" — это мнения многих мудрецов, но из них одна только многоценна — одна истина, которая есть Христос. Как о жемчуге повествуют, что он рождается в раковине, которая раскрывает створки, и в нее упадает молния, а когда снова затворяет их, то от молнии и от росы зарождается в них жемчуг, и потому он бывает очень белым, — так и Христос зачат был в деве свыше от молнии Св. Духа» [39] . Собственно говоря, эта интерпретация нисколько не противоречит первой: обретение «истины, которая есть Христос», тождественно для верующего с обретением «Царства Небесного». Совсем иное толкование символа имеет в виду «Песнь о жемчужине»: драгоценный перл — здесь не спасение, но спасаемое: избранная душа будущего гностика, которая покуда пребывает в земле египетской, то есть, согласно аллегорическому пониманию Египта, в плотском царстве мрака [40] . Из страны Востока, то есть из царства духовного света, за ней посылают царского сына. «Псалом», который поет апостол Фома в индийской темнице, начинается так:
Когда был я дитятей бессловесным, в чертогах моего отца богатством и роскошами утешаясь, от Востока, отечества моего, родившие меня
в путь собрали и послали меня. От богатств сокровищниц своих они ношу собрали мне в путь, великий, но легкий груз [41] ,
чтоб нести его мог я один. Злато есть бремя вышних, слитки от великих сокровищ, и самоцветы от народа индийцев, и жемчуга от народа кушанов [42] . И надели на меня доспех из адаманта [43] , и одеянием златотканым облачили, что сотворили для меня любящие меня, и ризой, желтоцветной, мне по мере [44] .
И сотворили они завет со мною, начертав его в уме моем, и сказали так:
«Когда придешь ты в Египет, изыми оттоле единую жемчужину, обретающуюся подле пасти змия».
Царевич пускается в путь, минует Майшан (область у русла Тигра) и приходит в Египет; там он совлекается своих одежд и через это отчуждается от самого себя. В этом эпизоде Египет приобретает явственные черты царства мертвых. Как известно, сошедшему в царство мертвых никак не рекомендуется вкушать от яств, которые ему там предложат; вкусивший причащается субстанции преисподней и подвластен ее силам (как Персефо- на в греческом мифе). Но людям Египта удается ввести царевича в соблазн, и последний как бы повторяет грех Адама, вкусившего запретный плод:
Не знаю, откуда постигли они, что родом я не из их земли, и смесили они с лукавством обман, и вкусил я от яств их, и позабыл, что я сын царев, и поработился их царю; и пришел я уже к жемчужине той, за которой родившие послали меня, но от тяжелых их яств погрузился в глубокий сон.
бедственном забытьи царевича узнают в Земле Востока, и родители посылают ему такое письмо:
«От отца, царя царей,
и от матери, царящей над землею Востока, и от братьев их, вторых после нас, обретающемуся во Египте сыну нашему — мир [45] .
Восстань,
и пробудись от сна, и услышь глаголы послания, и воспомни, что царский ты сын! Рабское принял ты иго; воспомни о ризе твоей златотканой, воспомни о жемчужине, коей ради послан ты в Египет!»
Окликание оказывает должное воздействие на царевича, ибо сообщаемое в письме совпадает с тем, что написано в его собственном сердце:
Я же от такого гласа пришел от сна в чувство, и взял, и облобызал послание, и прочел его;
написано же было в нем то, что начертано было в сердце моем.
И тотчас припомнил я, что сын я царей, и свобода моя
взыскует благородства моего; припомнил я и о жемчужине, коей ради послан был я в Египет.
Царевич без труда одолевает змия, изрекши имя своего отца (из чего явствует, что это имя — имя божье, и сам он — сын божий). После этого он пускается в обратный путь. Его ведет все то же родительское письмо, претерпевающее удивительные метаморфозы: оно оказывается и голосом, и светом, и наконец, одеянием, которое одновременно есть зеркало (!), представляющее царевичу его собственный образ. Эти конкретно непредставимые метафоры столь же противоречат традициям античной поэтики, сколь соответствуют нормам поэтики Ближнего Востока: цветистость и неожиданность метафоры призвана гипнотически возбудить воображение, а ее бесплотность, безобразность, неуловимость позволяет тем легче пройти сквозь нее и выйти к лежащему за ней смыслу. Если об одеянии говорится, что оно есть зеркало, всякому ясно, что это и не чувственное одеяние, и не чувственное зеркало. Символ «одеяния» и «зеркала» на наших глазах обнажает свой смысл высшей сущности героя, его сокровенного Я:
Внезапно узрел я ризу мою, подобившуюся как бы зерцалу; я видел ее всецело во мне самом, и был в ней всецело явлен себе, так что были мы двое в разделении, и все же едины в едином образе.
Язык мистики — всегда язык парадокса. Одеяние — это зеркало, и зеркало — это одеяние (не говоря уже о том, что они суть письмо, голос и свет); высший лик посвященного тождественен его личности и одновременно не тождественен ей, они являют собой двоих и единое. Так ортодоксальная теология на Халкидонском вселенском соборе определит соотношение божественного и человеческого естеств в богочелове- честве Христа парадоксальными словами «неслиянно и нераздельно» [46] . Неслиянны и нераздельны в «Песни о жемчужине» буквальный план повествования и его таинственный смысл. Путь царевича проходит по совершенно реальному географическому маршруту из Ирана, через Южную Месопотамию и Красное море к Египту, а затем обратно; но одновременно это путь духовного нисхождения (соответственно восхождения) через космические планы бытия, ибо Иран расшифровывается как верховное царство чистой солнечной духовности, Месопотамия — как опасное промежуточное царство астральных «тиранических демонов Лабиринта», Египет — как дольняя преисподняя мрака и материи. Кушанская земля, Майшан, Сарбуг — все это места, которые можно отыскать на карте Азии тех времен, но каждому из этих имен придано еще второе, «духовное» значение. Все эти черты — и парадоксализм, проявляющийся в описании неописуемого через пары взаимоисключающих терминов [47] , и опять-таки парадоксальное по своей сути совмещение предметного и запредметного планов — останутся конститутивными особенностями византийской религиозной поэзии на все века ее существования.