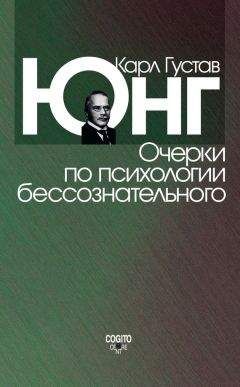Экстраверсия и интроверсия – всего лишь одно из многих различий в человеческом поведении. Но именно оно довольно часто узнаваемо и очевидно. Изучая индивидов-экстравертов, например, довольно скоро можно обнаружить, что они во многих отношениях отличаются друг от друга, и экстравертность оказывается слишком поверхностной и общей характеристикой. Вот почему уже давно я пытаюсь найти некоторые другие основные характеристики, которые могли бы служить целям упорядочения явно безграничных колебаний человеческой индивидуальности.
Меня всегда поражал тот факт, что существует удивительно много людей, которые не стремятся размышлять, если этого можно избежать, хотя они отнюдь не глупы, и столь же значительное число тех, кто постоянно держит свой разум «в работе», но действует при этом поразительно глупым образом. Столь же удивительным для меня было обнаружить, что многие образованные и мыслящие люди живут так, словно они не научились пользоваться своими органами чувств (насколько это можно заметить). Они не замечают вещей перед своими глазами, не слышат слов, звучащих у них в ушах, не замечают предметов, которые трогают или пробуют на вкус. Некоторые живут, не замечая, не осознавая своего собственного тела. Есть и другие, которые, казалось бы, живут в странном режиме своего сознания, будто состояние, в котором они сегодня оказались, было окончательным, постоянным, без какой-либо возможности перемен. Словно мир и психика статичны и остаются такими вечно. Они, казалось бы, избегали любого вида воображения и всецело зависели от непосредственного восприятия. В их мире отсутствовал случай или возможность чего-нибудь, и в «сегодня» не было ни частицы «завтра». Будущее оказывалось простым повторением прошлого.
То, что я пытаюсь передать читателю, – это тот первый эскиз впечатлений, которые я получил в своих наблюдениях за встречавшимися мне людьми. Скоро, однако, мне стало ясно, что те люди, которые предпочитают «работать головой», относятся к числу мыслящих, использующих свои интеллектуальные способности, для адаптации к людям и обстоятельствам. Но не менее интеллигентными оказались и те люди, которые не думали, а отыскивали и находили свой путь с помощью чувств. «Чувство» – это слово, которое нуждается в некотором пояснении. К примеру, кто-то говорит о чувстве, имея в виду «переживание» (соответствует французскому «сентимент»). Но его также можно использовать и для выражения мнения; к примеру, сообщение из Белого Дома может начинаться: «Президент чувствует…». Это слово может использоваться и для выражения интуиции: «У меня такое чувство, что…».
Когда я использую слово «чувство» в противовес слову «мысль», то имею в виду суждение о ценности, например, приятно или неприятно, хорошо или плохо и т. д. Чувство, согласно этому определению, не является эмоцией (последнее, следуя этимологии английского слова e-motion, означающего движение, непроизвольно). Чувство, как я это понимаю, так же как и мышление, – рациональная (т. е. управляющая) функция, в то время как интуиция есть иррациональная (т. е. воспринимающая) функция. В той степени, в какой интуиция есть «предчувствие», она не является результатом намеренного действия, это скорее непроизвольное событие, зависящее от различных внутренних и внешних обстоятельств, но не акт суждения. Интуиция более сходна с ощущением, являющимся также иррациональным событием постольку, поскольку оно существенно зависит от объективного стимула, который обязан своим существованием физическим, а не умственным причинам.
Эти четыре функциональных типа соответствуют очевидным средствам, благодаря которым сознание получает свою ориентацию в опыте. Ощущение (т. е. восприятие органами чувств) говорит нам, что нечто существует; мышление раскрывает, что это такое; чувство отвечает, благоприятно это или нет, а интуиция оповещает нас, откуда это возникло и куда уйдет.
Читатель должен понять, что эти четыре типа человеческого поведения – просто четыре точки отсчета среди многих других, таких, как воля, темперамент, воображение, память, отношение к морали, религии и т. д. Названные качества не содержат в себе ничего догматического, раз и навсегда установленного, они рекомендуются лишь в качестве возможных критериев для классификации. Я считаю их особенно полезными, когда пытаюсь объяснить детям поступки их родителей, женам – поведение их мужей и наоборот. Они также полезны для понимания наших собственных предрассудков.
Так что, если вы хотите понять сон другого человека, вы должны пожертвовать своими пристрастиями и подавить свои предрассудки. Это не так легко, поскольку требует морального усилия, к которому не каждый готов. Но если аналитик не сделает определенного усилия и не подвергнет критике свою точку отсчета, признавая ее относительность, он никогда не соберет верной информации и не углубится достаточно полно в сознание пациента. Аналитик ожидает, по крайней мере, от пациента некоторого желания выслушать его мнение и принять его всерьез, но и пациенту должно быть гарантировано такое же право. Хотя подобные отношения обязательны для любого понимания и, следовательно, самоочевидны, приходится напоминать об этом всякий раз: в терапии понимание пациента важнее теоретических ожиданий аналитика. Сопротивление пациента толкованию аналитика не обязательно является ошибочным, это скорее верный признак того, что что-то не «стыкуется». Либо пациент еще не достиг точки понимания, либо не подходят интерпретации.
В своих усилиях понять символы сна другого человека мы почти неизменно наталкиваемся на нашу тенденцию заполнять неизбежные провалы собственного понимания проекцией, т. е. предположением, что то, что ощущает и думает аналитик, соответствует мыслям и чувствам пациента. Дабы преодолеть этот источник ошибок, я всегда настаивал на важности строгого ограничения контекстом самого сна и на исключении всех теоретических предположений относительно снов вообще, за исключением гипотезы, что сны содержат некий смысл.
Из всего сказанного должно быть ясно, что не существует общих правил для толкования сновидений. Когда ранее я предположил, что всеобщая функция снов заключается в компенсации недостатков и искажений сознания, то подразумевал при этом многообещающий подход к природе отдельных сновидений, открывающийся при подобного рода предположении. В некоторых случаях эта функция проявляется довольно отчетливо. Один из моих пациентов был весьма высокого мнения о себе, не догадываясь при этом, что почти каждый, кто его знал, раздражался этим видом его морального превосходства. Он пришел ко мне со сновидением, в котором ему представлялся пьяный бродяга, валявшийся в канаве, – зрелище, побудившее его лишний раз сделать снисходительное замечание: «Странно видеть, как низко может пасть человек». В этом случае очевидно, что неприятный сон был частичной попыткой компенсировать его завышенное мнение о себе. Но за этим скрывалось и нечто большее. Оказалось, что у него был младший брат, опустившийся алкоголик. Сон обнаружил также, что завышенная установка компенсировала эту «неполноценность» брата – того брата, который «жил» в нем самом.
В другом случае я вспоминаю женщину, гордившуюся своим знанием психологии. Ей время от времени снилась другая женщина. Когда она встретила ее в реальной жизни, то та ей не понравилась, показалась интриганкой, суетной и нечестной. Тем не менее в снах она выглядела милой и вела себя дружественно, почти как сестра. Моя пациентка не могла понять, почему во сне человек, которого она в жизни явно не любит, предстает в таком благоприятном виде. Но эти сны были способом продемонстрировать, что ей самой присущи некоторые «теневые» бессознательные черты, сходные с чертами той женщины. Пациентке было трудно признать это, поскольку у нее имелись весьма четкие представления о своей личности, а здесь требовалось осознать, что сон рассказывает о ее собственном комплексе власти и скрытых мотивах – бессознательных влечениях, не раз приводивших ее к неприятным ссорам с друзьями. Ссорам, в которых она винила всегда других, а не себя.
Но не только «теневую» сторону нашей личности мы не замечаем, игнорируем и подавляем. Мы проделываем то же самое и с нашими положительными качествами. В качестве примера вспоминается один весьма скромный, легко смущающийся молодой человек с приятными манерами. Казалось, он всегда довольствуется второстепенной ролью и непременно настаивает лишь на своем присутствии. Когда его просили что-нибудь сказать, он излагал свои суждения, но никогда не навязывал их. Иногда он, правда, намекал, что тот или иной вопрос можно было бы рассматривать и на другом, более высоком уровне (хотя никогда не объяснял, как). В своих снах, однако, он постоянно сталкивался с великими историческими фигурами, такими, как Наполеон или Александр Македонский. Эти сны явно компенсировали его комплекс неполноценности. Но они подразумевали и нечто другое. Кто же я такой, спрашивал сон, если у меня такие знаменитые гости? В этом смысле сон указывал на скрытую мегаломанию, компенсировавшую чувство неполноценности. Бессознательная идея величия изолировала его от реальности окружающих его людей и позволяла пребывать вне обязательств, неукоснительных для других. Он не ощущал необходимости доказывать самому себе или другим, что его высокое суждение зиждется на высоком достоинстве. Бессознательно он играл в нездоровую игру, о чем его пытались предупредить его же сны, причем весьма двусмысленным образом. Общество Наполеона и беседы с Александром Македонским как раз относятся к числу фантазий, развивающихся при комплексе неполноценности. Но можно спросить, почему же сон не выразил открыто то, что следовало, а сделал это двусмысленным образом?