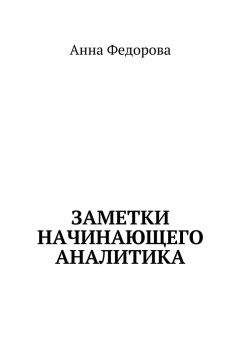того, что при всей разнице между ними аналитик и анализант имеют дело не просто с одной и той же психической материей, но с одной и той же тревогой по поводу существования желания. Безо всякого знакомства с анализом любой сексуализированный субъект уже питает на его счет серьезные подозрения. Так, он видит желание в своей возлюбленной или в соратнике, и вполне способен уловить ту проблематичность, которую оно вносит – безотносительно того, обладает ли он теоретическим аппаратом для восприятия этой проблематичности или нет. Речь, таким образом, идет о предмете, применительно к которому полноценное разделение на «теорию и практику» нерелевантно и лишь запутывает исследование.
Тем не менее под желанием аналитика часто подразумевают некое особое образование, которое возникает именно в результате пройденного анализа. О каком образовании тут идет речь?
Как раз здесь возникают часто прикрытые туманной риторикой формулы о «дистанции в анализе», «отказе от идентификации с аналитиком» (путаница и подмена состоит уже в допущении возможности идентифицироваться с «личностью аналитика», как будто в анализе эта «личность» играет хоть какую-то роль). Иными словами, здесь невольно возникает тот профессиональный, рекомендательный тон, который на уровне акта высказывания чреват ничем иным, как возвращением на круг пресловутой идентификации со специалистом, продуцирующим свое поучение. (Известно, как часто идентификация возникает не столько в направлении от анализанта к аналитику, сколько внутри самой аналитической среды, где отсутствует поддерживаемый в анализе особый режим взаимодействия и где «личность» с ее манерой держаться может действительно выйти для младших коллег на первый план, что на наших глазах происходит повсеместно.)
Основная проблема этого подхода заключается в том, что само наличие такого рода рекомендаций свидетельствует об изначальном отсутствии в поле зрения желания аналитика. Если дистанция, связанная с необходимостью избежать той же идентификации, выносится на первый план, то ее поддержание требует особых усилий. Иными словами, она в специалисте «воспитывается». В центре внимания вновь оказывается перспектива «образования» с присущей ей оптикой изначальной субъектной недостачи, которую образование призвано восполнить. Даже если предположить, что воспитывается будущий аналитик исключительно внутренними аналитическими средствами, в ходе собственного анализа, и что за его пределами о требуемых от него профессиональных приобретениях никто специально не заговаривает (что, очевидно, не соответствует действительности), то и в этом случае изначальное допущение остается неизменным: речь снова должна идти о спецсредствах, о методах побуждения, без которых нечто под именем «желания аналитика», на свет не появится.
Доля истины, связанной с процессами дидактического анализирования, в подобном воззрении бесспорно есть. Тем не менее оптика, в которой эти процессы рассматриваются, совершенно затуманивает фрейдовскую перспективу, никогда не описывавшую анализ в терминах «восполнения» некой изначальной неспособности посредством воспитания у специалиста особого «желания анализировать». Желание, предшествующее возникновению желания аналитика, не проявляется в собственном дидактическом анализе субъекта, как бы сильно иные аналитики того ни хотели. Креационистская нота, часто звучащая в рассуждениях об «образовании аналитика», вносит сумятицу и меняет местами элементы, которые были расставлены совершенно иначе как в желании самого Фрейда, так и во внешней стороне его деятельности.
В случае Фрейда желание анализировать имело место изначально – не потому, что именно анализу он себя в конечном счете посвящает (сам по себе такой выбор не имеет решающего значения, будучи фактом биографии и даже, возможно, как ни трудно это признать, фактом случайным), а ввиду того, что элементы этого желания направляли его деятельность задолго до обретения аналитической теорией в том виде, который она приняла к моменту появления у Фрейда первых крупных последователей. Если в дальнейшем он настойчиво твердил, что аналитическая практика должна базироваться на определенной сдержанности, отказе от «страсти к лечению», от чрезмерной вовлеченности аналитика в сам его процесс и в личность анализанта (из чего как будто вытекало, что аналитику удерживать себя от этой вовлеченности приходится силком), то говорить все это Фрейду, как ни странно это прозвучит, приходилось ценой отказа от собственной аналитической позиции.
Из текстов Фрейда, из самих используемых им означающих видно, в пользу чего совершался этот отказ – в пользу позиции врачебной. Именно в поиске компромисса между позицией аналитика и врачебным делом, которое всегда в своей риторической части базируется на практике рекомендательного, наставительного поучения более молодых коллег, происходило отступление Фрейда в область дискурса медикализации, в котором речь действительно может идти о необходимости преодоления филантропического настроя – например, отказа удерживать силой или без видимой нужды причинять боль – ради вящей пользы больного.
Вместе с тем это отступление ничего не меняло в основах фрейдовского изложения, поскольку из него в целом не следовало, что на присущую практике анализа сдержанность и абстиненцию аналитика необходимо натаскивать или, иными словами, что эти необходимые компоненты желания аналитика приобретаются искусственно, а потому о них необходимо все время напоминать, преодолевая исходящее от специалиста реликтовое «доаналитическое» сопротивление. Мысль, что собственный анализ нужен психоаналитику не только для освоения основ техники, но и для прерывания той «естественной» человеколюбивой и сострадательной позиции, на которой он якобы находился до анализа, является руссоизмом чистой воды. Отсутствие у Фрейда подобных наивных заблуждений, по всей видимости прижившихся впоследствии в классическом анализе еще до Лакана и в превращенном виде перешедших в некоторые постлакановские образования, заставляет пересмотреть расхожую профессиональную риторику наследующих Фрейду и Лакану психоаналитиков, поскольку имплицитно делает излишними многие из ее положений. В первую очередь это соположение двух утверждений, одно из которых требует признать, что «желание аналитика сосредоточено только на анализе» и, стало быть, именно в нем получает единственно возможное воплощение, а второе – что этому желанию присущи вышеописанные элементы дистанции и сдержанности, которые аналитиком воспроизводятся лишь силой профессионального самопринуждения и помещения своего дела превыше всего. Ложность этой картины связана не только с тем, что в ней не удается избежать фальши чрезмерной благонамеренности, но и с презумпцией мнимой неразложимости желания аналитика, якобы не выводимого ни из чего, кроме самой сферы своего применения. Под видом этого желания перед нами предстает неразборный агрегат, передаваемый подобно инструменту или прибору, который можно настраивать, если он дает сбой, но относительно которого нет смысла спрашивать, что он собой представляет помимо его назначения. Желание аналитика, при всех прилагаемых сегодня усилиях обозначить его оригинальный характер, тем самым одновременно загоняется в рамки, несущие для того, что претендует на статус «желания» в анализе, почти издевательский смысл.
Преобладание подобного взгляда на вещи, который сохраняется и воспроизводится в том числе благодаря деятельности основного круга лакановских последователей, само по себе прекрасно объясняет постоянные поломки этого прибора: даже многочисленные конгрессы, семинары и прочие образования, призванные удерживать желание аналитика в надлежащей форме, не в состоянии предотвратить его сбоев.