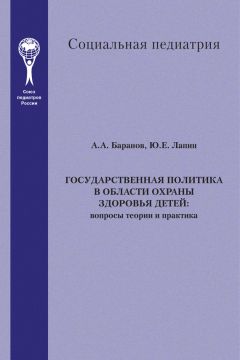Но разве эмпатия не является просто инструментом, специфическим инструментом наблюдения, и разве мой акцент на ней не делает поэтому мое собственное определение произвольным, как если бы я сказал, что анализ определяется использованием кушетки в терапевтической ситуации и использованием понятия вытеснения в теории? Мой ответ на эти вопросы: «Нет». Эмпатия не является инструментом в том смысле, в котором являются инструментами кушетка, свободные ассоциации, использование структурной модели или концепций влечений и защиты. Эмпатия действительно определяет область наших наблюдений. Эмпатия является не просто ценным методом, благодаря которому мы получаем доступ к внутренней жизни человека — сама по себе идея о внутренней жизни человека и, таким образом, о психологии сложных психических состояний немыслима без нашей способности узнавать с помощью интроспекции (это и есть мое определение эмпатии [ср. Kohut, 1959, р. 459–465]), как протекает внутренняя жизнь человека, что мы думаем и чувствуем и что думают и чувствуют другие[88].
«От идентификации путь ведет через подражание к вчувствованию, то есть к пониманию механизма, благодаря которому мы вообще каким-то образом можем относиться к душевной жизни другого человека» (Freud, 1921, р. ПО, примечание 2, курсив мой. — X. К.).
«[Фрейд] обнаружил, что новое знание можно получать и путем научного упорядочения данных интроспекции, и используя данные внешнего восприятия, собранные при помощи наблюдения и эксперимента». И далее: «Благодаря психоанализу мы можем теперь систематически изучать новую группу данных — группу данных, оставленную без внимания естествознанием. Психоанализ демонстрирует действие внутренних сил, которые можно воспринять только с помощью интроспекции» (Ferenczi, 1927).
Определяя психоанализ как психологию сложных психических состояний, которая с помощью постоянного интроспективно-эмпатического погружения наблюдателя во внутреннюю жизнь человека собирает свои данные, чтобы их объяснить, мы ослабляем оковы слишком узкого определения психоанализа, которое помешало бы нам — и следующим поколениям аналитиков — привести наши теории и объяснения в соответствие с новыми данными, которые мы будем получать в дальнейшем.
На основе моего широкого, но, как я думаю, четко разграничивающего определения я способен теперь решить также проблему, которая озадачивала меня на протяжении долгого времени. В прошлом я часто задавался вопросом, почему я мог считать аналитиками представителей некоторых групп, с теоретическими принципами которых я был полностью не согласен, и не мог принять как аналитиков представителей некоторых других групп, несмотря на то, что был готов принять многие их теоретические представления. Я никогда, например, не подвергал сомнению, что последователи Мелани Кляйн были аналитиками, хотя, на мой взгляд, в своих теоретических формулировках они основывались на ошибочных допущениях и хотя я не соглашался с некоторыми аспектами их психоаналитической практики, являвшимися результатом их теоретических заблуждений. С другой стороны, я не мог, например, принять как аналитиков последователей идеи Франца Александера (Alexander et al., 1946), что традиционный длительный психоанализ есть следствие феноменов сопротивления (то есть что в этом случае аналитик сталкивается с увертками пациента или, по крайней мере, с его непродуктивной регрессией) и что он должен быть заменен кратковременными, активно управляемыми формами терапии — я не мог принять их как аналитиков даже при том, что они продолжали строго придерживаться основных формулировок классического анализа, то есть продолжали отстаивать примат эдипова комплекса и интерпретировали свои данные в соответствии со структурной моделью психики.
Теперь мне стало ясно, что эти (прежде совсем непонятные) различия основывались не на критерии, согласно которому научный или терапевтический подход определяется как аналитический, если он устанавливает, что наблюдатель придерживается некоторой философии (например, психобиологической точки зрения) или что он опирается на некоторые принципы упорядочения (например, на генетическую, динамическую, экономическую или структурную точки зрения) или придерживается определенных теорий (например, теории переноса и сопротивления в понимании Фрейда), а на критерии, согласно которым такой подход определяется как аналитический, если он означает постоянное погружение в совокупность психологических данных с помощью эмпатии и интроспекции с целью научного объяснения наблюдаемой области. Хотя, например, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что существуют крайне важные действия анализанда (и что их можно наблюдать в аналитической ситуации), которые объясняются как слияние вытесненных детских желаний с желаниями, направленными на аналитика; и что точно так же существуют крайне важные действия анализанда, которые можно объяснить как сдерживающие эндопсихические силы, направленные против аналитика, когда его интерпретации начинают угрожать невротическому равновесию сил; и хотя, кроме того, я не могу представить себе, что психоанализ способен сейчас отказаться от двух концепций — переноса и сопротивления, — которые представляют собой теоретическое осмысление этих двух форм поведения, я по-прежнему утверждаю, что будущее поколение психоаналитиков, наверное, обнаружит психологические области, требующие нового концептуального подхода, — области, где, даже если говорить о терапии, две эти универсальные ныне концепции окажутся нерелевантными. Современная физика — Эйнштейна и особенно Планка и Бора — остается по-прежнему физикой, несмотря на то, что эти исследователи сосредоточились на неизведанных ранее сторонах физической реальности и были вынуждены создать формулировки, отличные от формулировок классической физики Ньютона. Должно ли отношение психоаналитиков к своей науке отличаться от отношения физиков к своей?
Предыдущими рассуждениями об определении глубинной психологии — определении, в котором психоанализ предстает такой же фундаментальной наукой, как физика, математика или биология, — я, начав с нового направления, вернулся к тому же самому выводу, который представил в 1959 году. Хотя с тех пор как я впервые сформулировал мысли о фундаментальном значении нашей интроспективно-эмпатической наблюдательной позиции, мои представления о многих областях психоаналитической теории и практики изменились, но мое мнение по этому принципиальному вопросу осталось прежним.
Правда, принятие моих взглядов о сущности психоанализа само по себе не служит доказательством утверждения, что та или иная новая объяснительная гипотеза является верной, что она помогает расширить психоаналитическую теорию или что она дает новые эффективные средства для психоаналитической практики, — даже если новая гипотеза вытекает из эмпирических данных, полученных исследователем в процессе длительного эмпатического погружения во внутреннюю жизнь своих анализандов. Но их принятие покончило бы с отвержением ex cathedra идей и результатов, отличающихся от общепризнанной доктрины, и позволило бы психоаналитикам отказаться от обычных способов упорядочения эмпатически воспринятых данных и хотя бы на какое-то время занять определенную позицию, — которую Колридж (Coleridge, 1817) называл «добровольным отказом от недоверия», — посвятив себя задаче понимания новых процессов и конфигураций. Широкое определение психоанализа в конечном счете позволит, если подлинность новых результатов и релевантность новых формулировок будет установлена, включить новые данные и теории и их последующие постепенные модификации в дальнейшую профессиональную деятельность аналитиков.
Основываясь на вышеупомянутом убеждении, что ни лояльность к общепринятым способам мышления, ни страх слишком широкого определения предмета, с которым имеет дело психоанализ, не должны мешать аналитику проверять новые концепции, теории и методы, представленные другими исследователями, я выступаю за необходимость непредубежденного отношения к психологии самости. Наконец, последний вопрос по поводу этого шага в психоанализе, за который я ратую: даже если непредубежденный психоаналитик будет прислушиваться к психологии самости, даже если он признает, что ее принципы являются релевантными и что они объясняют определенные феномены внутри и вне клинической ситуации, которые не могла объяснить классическая теория, — не будет ли он по-прежнему ее отвергать из-за неполноты и отсутствия законченности и элегантности некоторых ее теорий и неясности некоторых ее концепций?
Позвольте мне в этой связи обратиться, в частности, к особенностям данной работы, которые, возможно, кому-то покажутся серьезным недостатком. Мое научное исследование занимает сотни страниц, на которых рассматривается психология самости; но в нем нигде не закрепляется жесткое значение за термином «самость», нигде не объясняется, как следует определять сущность самости. Но я признаю этот факт без раскаяния или стыда. Самость, осмысляется ли она в рамках психологии самости в узком смысле термина как определенная структура психического аппарата или в рамках психологии самости в широком смысле термина как центр психологической вселенной индивида, является, как и остальная реальность — физическая реальность (сведения о мире, воспринимаемом с помощью органов чувств) или психологическая реальность (сведения о мире, воспринимаемом с помощью интроспекции и эмпатии), — в своей сущности непознаваемой. Мы не можем посредством интроспекции и эмпатии проникнуть в самость как таковую; нам доступны только ее интроспективно или эмпатически воспринимаемые психологические проявления. Когда выдвигаются требования дать точное определение самости, не учитывается то, что «самость» является не понятием абстрактной науки, а обобщением, выведенным из эмпирических данных. Требования разграничения «самости» и «репрезентации самости» (или, например, «самости» и «чувства самости») основаны, следовательно, на недопонимании. Мы можем собрать данные о том, как постепенно формируется совокупность интроспективно или эмпатически воспринимаемых внутренних переживаний, которые мы затем называем «Я», и мы можем наблюдать некоторые характерные трансформации этого опыта. Мы можем описать различные связные формы, в которых проявляется самость, можем продемонстрировать некоторые элементы, которые составляют самость, — ее два полюса (амбиции и идеалы) и область талантов и навыков, которые расположены между этими двумя полюсами, — и объяснить их происхождение и функции. И, наконец, мы можем выделить различные типы самости и объяснить их разные особенности, основываясь на преобладании тех или иных ее элементов. Мы можем все это сделать, но мы по-прежнему не будем знать сущность самости, отличную от ее проявлений.