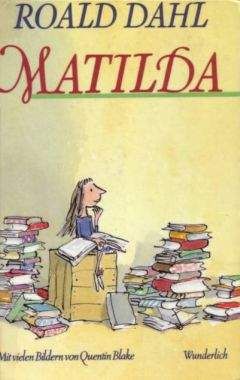Напрашивается идея использовать в качестве пугала, так сказать, «дьявола» и попросту натравить людей на «зло». Но это было бы связано с большим риском даже для людей высокого духовного уровня. Зло есть per definitionem [По определению (лат.)] то, что несет угрозу добру, то есть тому, что воспринимается как ценность. Но поскольку для ученого наивысшую ценность представляет познание, он видит во всем, что препятствует расширению знания, наихудшее из зол. Меня самого коварное нашептывание агрессивного инстинкта соблазняло бы видеть воплощение враждебного начала в «гуманитариях», пренебрежительно относящихся к естественным наукам, и особенно в противниках эволюционного учения, если бы я не знал о физиологической природе реакции воодушевления и о принудительности ее действия, подобного рефлексу. Могла бы даже возникнуть опасность оказаться втянутым в религиозную войну с идейными противниками. Поэтому лучше воздержаться от всякой персонификации зла. Однако и без нее воодушевление, объединяющее отдельные группы, может привести к вражде между ними – в случае, если каждая из них выступает за определенный четко очерченный идеал и идентифицирует себя только с ним. (Я употребляю здесь слово «идентифицирует» в обычном, а не психоаналитическом значении.) Как справедливо указывал И. Холло, в наше время национальные идентификации очень опасны именно потому, что имеют очень четкие границы. Можно чувствовать себя «настоящим американцем» в противоположность «этим русским», и vice versa [Наоборот (лат.)]. Кому доступно много ценностей, кто, воодушевляясь ими, ощущает единство со всеми людьми, которых тоже воодушевляют музыка, поэзия, красота природы, наука и многое другое – тот может реагировать незаторможенной боевой реакцией только на людей, не участвующих ни в одной из этих групп. Следовательно, нужно увеличивать число таких идентификаций, а для этого есть только один путь – улучшение общего образования молодежи. Исполненное любви отношение к человеческим ценностям невозможно без обучения и воспитания в школе и в родительском доме. Только это делает человека человеком, и не случайно определенный род образования называется гуманитарным (humanistisch) [Немецкое слово humanistisch, как и русское «гуманитарный», происходит от латинского humanus – человеческий ]: спасение могут принести ценности, которые кажутся далекими, как небо от земли, от борьбы за жизнь и от политики. При этом не обязательно и, может быть, даже нежелательно, чтобы люди из разных обществ, наций и партий воспитывались в стремлении к одним и тем же идеалам. Даже частичное совпадение взглядов на вдохновляющие ценности, достойные защиты, может ослабить национальную вражду и оказаться благом.
В отдельных случаях эти ценности могут быть весьма специфическими. Я уверен, например, что люди по обе стороны занавеса, посвятившие свою жизнь великому и опасному делу покорения космоса, испытывают друг к другу лишь глубокое уважение. Здесь каждая сторона, несомненно, согласится, что и другая борется за подлинные ценности. В этом отношении космические полеты – великое благо.
Существуют, однако, два более значительных и в подлинном смысле слова коллективных предприятия человечества, призванных в гораздо более широких масштабах объединять общим воодушевлением ради одних и тех же ценностей партии и народы, прежде разобщенные или даже враждебные. Это искусство и наука. Ценность их неоспорима, и даже самым отчаянным демагогам до сих пор не приходило в голову объявлять никчемным или «выродившимся» все искусство тех партий или культур, против которых они натравливали своих адептов. Кроме того, музыка и изобразительное искусство не знают языковых барьеров и уже поэтому призваны говорить людям по одну сторону занавеса, что и по другую сторону служат добру и красоте. Именно ради этого искусство должно оставаться вне политики. Искусство, направляемое политическими тенденциями, внушает нам безграничное и вполне оправданное отвращение.
Наука, как и искусство, представляет собой неоспоримую самодостаточную ценность, независимую от партийной принадлежности тех, кто ею занимается. В отличие от искусства, она не является непосредственно общепонятной и поэтому может поначалу связывать общим воодушевлением лишь немногих – но тем сильнее эта связь. Об относительной ценности произведений искусства можно иметь разные мнения, хотя и здесь истину можно отличить от лжи. В естественных науках эти слова имеют более узкий смысл: здесь истинность или ложность утверждения определяется не мнением людей, а результатами дальнейших исследований.
На первый взгляд кажется безнадежным воодушевить многих современных людей такой абстрактной ценностью, как научная истина. Она кажется слишком далекой от жизни, слишком бескровной, чтобы успешно конкурировать с такими пугалами, как фикция некоей угрозы своему сообществу со стороны некоего врага, которые всегда были в руках искусных демагогов безотказным средством провоцировать массовое воодушевление. Однако при ближайшем рассмотрении в справедливости этого пессимистического мнения можно усомниться. Истина, в отличие от пугал, – не фикция. Естествознание есть не что иное, как использование здравого человеческого разума, и оно никоим образом не далеко от жизни. Гораздо легче сказать правду, чем соткать паутину лжи, которая не выдала бы себя внутренними противоречиями. «Ведь разум, здравый смысл видны без всяких ухищрений».
Научная истина в большей степени, чем любая другая культурная ценность, является коллективной собственностью всего человечества, потому что она не создана человеческим мозгом, как искусство или философия (философия – это тоже «поэзия», в высочайшем и благороднейшем смысле греческого слова «создавать, творить»). Научную истину человеческий мозг не сотворил, а отвоевал у окружающей внесубъективной действительности. А поскольку действительность для всех людей одна и та же, научные исследования по все стороны всех политических занавесов всегда с надежным согласием обнаруживают одно и то же. Если исследователь хоть немного сфальсифицирует результаты в духе своих политических убеждений – что может быть сделано бессознательно и вполне bona fide [Добросовестно (лат.)], – то действительность просто скажет «нет»: попытка применить такие результаты на практике будет безуспешна. Примером может служить существовавшая одно время на Востоке генетическая школа, придерживавшаяся теории наследования приобретенных признаков. Это делалось, несомненно, по политическим соображениям – как можно надеяться, неосознанным. Все, кто верил в единство научной истины, были этим глубоко встревожены. Теперь об этой теории забыли, мнения генетиков всего мира снова совпали. Это, разумеется, всего лишь маленькая частичная победа, но это победа истины и тем самым основание для высокого воодушевления.
Многие жалуются на рассудочность нашего времени и глубокий скепсис нашей молодежи. Но то и другое, как я твердо верю и надеюсь, возникает из здоровой в своей основе самозащиты от искусственных идеалов, от запускающей воодушевление бутафории, на удочку которой так злополучно попадались люди, особенно молодые, в недавнем прошлом. Я полагаю, что эту трезвость как раз и следует использовать для проповеди таких истин, которые, столкнувшись с упорным недоверием, могут быть доказаны с помощью чисел; перед ними вынужден капитулировать любой скепсис. Наука – не мистическое учение и не черная магия, методы ее усвоения просты. Я думаю, что именно трезвых скептиков можно воодушевить доказуемой истиной и всем, что она с собой несет.
Но все же, хотя человека безусловно можно воодушевить абстрактной истиной, это несколько сухой идеал, и хорошо, что к ее защите можно привлечь другую, уж никак не сухую форму человеческого поведения – смех. У смеха много общего с воодушевлением; он также является формой инстинктивного поведения, также произошел от агрессии, а главное – выполняет ту же социальную функцию. Подобно воодушевлению одной и той же ценностью, смех по одному и тому же поводу порождает чувство братской общности. Если люди могут вместе смеяться, это не только предпосылка настоящей дружбы, но уже почти первый шаг к ее возникновению. Как мы знаем из главы «Привычка, церемония и колдовство», смех, вероятно, возник путем ритуализации из переориентированного угрожающего движения – в точности так же, как триумфальный крик гусей. Так же, как триумфальный крик и воодушевление, смех не только объединяет, но и направляет острие агрессии на посторонних. Тот, кто не может смеяться вместе с остальными, чувствует себя «исключенным», даже если смеются вовсе не над ним или вообще ни над кем и ни над чем. А когда кого-нибудь высмеивают, агрессивная составляющая смеха и его аналогия с определенной формой триумфального крика проявляются еще более отчетливо.