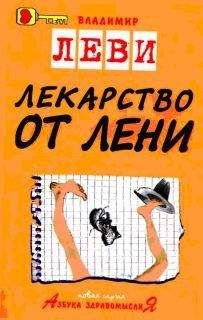Конечно, как ритмический строй звучащей речи зачастую способен выразить собой основные обертона глубинного ее смысла, гармония форм человеческого тела сама способна отразить в себе и то потаенное в нем, что в принципе не выражается ничем материальным. Это хорошо понимали греки, ибо уже для них красота, скрываемая физическим уродством Сократа, было приближением к совершенству идеала, который воплощался в гармонии безупречных форм бессмертных обитателей Олимпа. Но все же, прямая эманация Духа, человек - это прежде всего духовное начало, поэтому и ondnahe его Богу не может выйти за пределы духовного. А в этой сфере господствует уже совсем иная метрика, решительно невозможная в вещественном мире: копия мысли - это не копия, но сама мысль, копия образа - это сам образ. Поэтому здесь в даруемые вспышкой вдруг поглощающей все любви мгновенья предельного восхождения к Богу человек становится уже не простым "подобием", но самим Богом, - и нет в этом заключении ничего дерзкого и кощунственного.
Но если тайна Его назначения состоит в творении даруемого нам мира, то и наше подобие Ему может проявиться только в одном в творчестве. Вечное творчество - вот высший удел смертного. Вот только что есть творчество - философия, поэзия, наука, если одна лишь любовь способна созидать этот мир?..
Большие массы, - утверждает теория относительности, создают вокруг себя искривленное пространственное поле, способное отклонить от своей траектории даже луч света, символ безупречной прямой. По-видимому, так же и любовь способна создать какое-то свое особое поле, изменяющее нравственную природу и связь событий вокруг всех, кого она хранит. А значит, именно ей подвластно формировать и нравственную природу всего предстоящего нам.
Первый раз я смутно почувствовал ее прикосновенность к чемуто запредельному, ее тайную власть надо мной в четырнадцать лет. Была весна. Еще стесняясь друг друга, мы шли по набережной Лейтенанта Шмидта мимо памятника Крузенштерну. Я был в ударе. Меня несло. Я увидел ее глаза...
"На Васильевский остров я приду умирать"...
В свое время я прошел (кто знает, поймет меня) жестокую жизненную школу старого ремесленного училища, в поисках романтики уходил из дома, матросом Мурманского тралового флота я видел мертвую зыбь Северной Атлантики, на барже Северо-западного пароходства я пересек всю страну, на трассе БеломорскоБалтийского канала я глубоко заглянул в самые глаза смерти, в Ростове меня убивали... Словом, уже к двадцати я повидал на своем веку многое. Я весь был до предела надут одной сплошной спесью по отношению к моим сверстникам, не знавшим, может быть, и сотой доли того, что выпало мне. Вернувшись из армии я вновь увидел эти ее глаза... и неожиданно почувствовал себя рядом с ней каким-то сопливым мальчишкой. Я понял: ей было ведомо что-то такое, что намного превосходило все мои представления о жизни.
Как и в первый раз, меня поразила глубоко скрытая в них печаль... Это только потом, с годами, я узнаю, что в великой мудрости действительно очень много печали; ко мне это знание придет гораздо позднее, ибо одним способность к беззаветной любви и душевная мудрость в полном объеме даются сразу, "как нам дается благодать", другим для обретения даже незначительной доли этой благодати приходится пройти долгий путь испытаний и потерь... Это только потом, с годами, мне придет в голову, что она, вероятно, провидела все, что предстояло мне и, может быть, предстоит нашему сыну...
Да, она очень хотела ребенка. Но слепо повинующиеся инстинкту продолжения рода, задаемся ли мы вопросом: в чем вечная тайна зачатия? В чем вечная тайна зачатия? - вот центральный вопрос, который и я задаю себе здесь.
Вопрос совсем не риторичен, как кажется. Словно к воздуху, которым, не замечая его, мы дышим, мы привыкли к атомарной организации всего мыслящего как к некоторой безусловности, над которой глупо даже задумываться. Мы привыкли к тому, что m`dekemm` душой материя не сводится к структуре единого всеземного соляриса, но все же: делить эту планетарную субстанцию ноосферы на мириады обладающих абсолютным суверенитетом свободных атомов - зачем?!
Правда, именно эта атомарность, именно абсолютная уникальность каждой отдельной личности, обусловили тысячелетия мятежного поиска какого-то скрытого смысла жизни, какого-то общего для всех блага. Но так ли уж они нужны - и этот скрытый от всех смысл и это общее для всех благо, если именно их поиск чаще всего приносит одни страдания и тем, кто уходит из дома, и тем, кто остается ждать? И есть женщины, их много, которые - только для того чтобы оградить своих близких - готовы встать на пути тех, кто должен уходить.
Как знать, может и в самом деле есть доля правды в древней истине этих женщин, убежденных в том, что смысл индивидуального существования заключается вовсе не в победительном парадном шествии по жизни, не в свершении каких-то героических потрясающих устои цивилизации деяний. Но все же тихое благополучие собственного дома, мир и покой в кругу ближних - едва ли способны составить цель, венчающую назначение мужчины. Кто-то обязательно должен уходить, так уж устроен мир. Меж тем, именно мятежность духа тех, кто уходит, во все века служила единственным препятствием всеобщей нашей унификации, преградой растворению человека в составе какой-то нерасчлененной мыслящей слизи.
Да ведь и Господь послал именно в этот - распадающийся на отдельные монады мир Своего Сына, тем самым навсегда освятив суверенитет индивидуальности, освятив единственность. Уже одно это способно неопровержимо доказать, что для Него столь же дорог каждый отдельный человек, сколь и все его искания своего собственного места в жизни, столь же важно спасение души каждого, сколь и весь тот путь, который он вынужден для этого пройти, все то, что он должен вынести и претерпеть. Библейская притча о блудном сыне говорит в частности и о том, что самостоятельно в муках обретаемый свет куда ярче того, который не требует преодоления соблазна. Праведник, никогда не знавший греха, и человек, пришедший к правде через всю боль испытаний, несут своему Создателю далеко не одно и то же.
Но если Ему столь дороги муки, итогом которых становится самостоятельное обретение каждым какой-то (какой, Господи!) великой истины, то что же: и зачинающая новую жизнь земная любовь - это тоже приуготовление ее к боли? А значит, и собственная боль за тех, кто должен будет через нее пройти?
Не эта ли боль провидения светилась в ней тогда?
Но еще в этих ее глазах стоял вопрос. Так, не имея права на подсказку, умный экзаменатор своим вопросом пытается подтолкнуть способного ученика к самостоятельному поиску правильного ответа...
Все мы - образ и подобие Бога, но если дело вовсе не в материальных структурах, то самый смысл нашего существования должен быть образом и подобием смысла Его бытия. Нам не дано знать, в чем Его назначение. Нам не дано знать даже тайну нашего собственного. Все то, что открывается нам, способно очертить лишь немногое. Но и немногое обнаруживает бездну. Именно этой бездной предстает рисуемое Писанием Творение нашего мира. Но если именно в Творении - часть Его тайны, то и творчество человека должно быть отражением именно ее.
Когда-то давно и я навсегда усвоил воспринятую невесть nrjsd` фундаментальную истину: вовсе не разум, не способность создавать орудия, по существу единственное, что надежно отличает человека от животного или машины, это его способность к творчеству. Только оно является действительно человеческим в человеке. Все остальное в нем - это либо от животного, либо от бездушного механизма. Вот только в чем действительная тайна творчества?
Как, вероятно, и многие, творчество я видел только в том, что окружено блистательной атмосферой успеха, в том, что навсегда осаждается в библиотеках и музеях: в философии, поэзии, науке... Наукой грезил и я. Потом, в Университете мои учителя дадут понять мне, что в науку следует идти не с тем, чтобы что-то брать от нее, но для того, чтобы отдавать ей, чтобы что-то нести людям. И я быстро пойму эту истину и с готовностью соглашусь с ней. Но и это все еще будет не то... По-прежнему жаждущего славы, но уже готового и к жертвенности на поприще, которое тогда открывалось передо мной, меня годы и годы будет мучить этот впервые заданный именно ею вопрос. Он спрашивал совсем не о том, что я способен дать людям. Что принесешь ты Богу? - вот в чем, как мне теперь кажется, был его подлинный смысл.
Нет, это не был вопрос религиозного человека. Больше того, вероятно, она и сама была бы несказанно удивлена, если бы ее кредо было сформулировано именно таким образом. Просто и в те годы даже мы, воспитанные на безверии и атеизме, иногда понимали, что все-таки есть в этой жизни и какие-то несводимые ни к практической пользе, ни даже к фигурам высокой риторики высшие и недоступные нам начала. Сталкиваясь с ними, мы часто вспоминаем о Нем, рефлекторно именуя Им все то, перед чем мы готовы молча склониться. Правда, вспоминаем большей частью механически: "богвесть", "дарбожий", "сбогом", но все же и в этой механистичности есть-таки (есть!) мгновение прикосновенности к какой-то надобыденной правде.