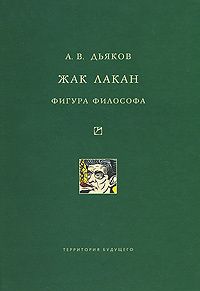Похоже, что для иных из вас статья эта кажется недоступной в силу того, что можно назвать, скажем, моим стилем.
Сожалею, но ничего не могу поделать — мой стиль, он мой стиль и есть. Попросим их совершить над собой некоторое усилие. Замечу лишь, что каковы бы ни были его недостатки, обусловленные личными моими особенностями, есть в трудности моего стиля, как они могут, возможно, догадываться, и нечто такое, что соответствует самому предмету, о котором у меня идет речь. Поскольку задача, по сути дела, состоит в том, чтобы всерьез вести речь о творческих функциях означающего в отношении к означающему, то есть не просто вести речь о речи, а, в попытке выявить ее функции, вести речь, следуя ее, самой этой речи, руслу, то стилю волей-неволей оказываются продиктованы некоторые внутренние закономерности — сжатость, намеки, игра слов, — которые служат решающими элементарными условиями для проникновения в область, само построение которой, не говоря уже о магистральных ее путях, определяется именно ими. В ходе дальнейших моих рассуждений я надеюсь вам это продемонстрировать. Я попытаюсь показать вам, что за ним не просто большая традиция, но и роль, в которой его заменить нечем.
Но это было лишь отступление. Давайте вернемся к моему тексту.
Прочтя его, вы убедитесь: то, что я, следуя Роману Якобсону, это придумавшему, нязывяюметафорической иметонимической функциями языка, без труда находит себе объяснение в регистре означающего.
Как я в течение прошлых лет неоднократно уже заявлял, характеристики означающего являются характеристиками существования цепочки, построенной из сочлененных звеньев и — добавляю я в этой статье — стремящейся образовать ряд контуров замкнутого типа, то есть состоящих из ряда колец, которые, сцепляясь друг с другом, образуют цепочки, включенные, в свою очередь, в другие цепочки, наподобие кольцевых звеньев. В общих чертах схема наша на это и указывает, хотя непосредственным образом структура цепочки в ней не представлена. Существование таких цепочек предполагает, что сочленения или связи означающего осуществляются в двух измерениях — измерении того, что можно назвать сочетанием, преемственностью, логической связью звеньев цепочки, с одной стороны, и измерении замещения, подстановки, с другой. Любой из этих операций каждый из элементов цепочки может подвергнуться. Обычное определение связи означающего и означаемого, в котором эта последняя носит линейный характер, второго из упомянутых измерений не учитывает.
Другими словами, сколь бы существенную роль диахроническое измерение для всякого акта языка ни играло, в нем обязательно подразумевается и синхрония — синхрония, заявляющая о себе присущей каждому из терминов означающего возможностью замещения.
Я напомнил вам в прошлый раз две формулы, одна из которых описывала сочетание, а другая — внутренне присущий всякой означающей артикуляции образ связи по принципу замещения. Не требуется какой-то сверхъестественной интуиции, чтобы заподозрить наличие некоторой связи между формулой метафоры, с одной стороны, и схемой, которой пользуется Фрейд, чтобы объяснить, каквозникает слово фамиллионьярно, с другой.
Что призвана продемонстрировать эта схема? Она призвана показать, что, если, с одной стороны, налицо нечто такое, что в промежутке выпало, что в артикуляции смысла оказалось опущенным, то, с другой стороны, тут же возникло иное образование, внутри которого фамильярный и миллионер, врезавшись, вплющившись друг в друга, явили на свет слово фамиллионьярный, и вот оно-то, это слово, и было в итоге произнесено. Перед нами своего рода частный случай функции замещения — случай, где операция эта оставляет определенного рода следы. Сгущение — это, если хотите, не что иное, как особая форма того, что может произойти на уровне функции замещения.
Было бы неплохо, если бы вы не забывали в дальнейшем о мыслях, которые развивал я в свое время по поводу одной метафоры, метафоры снопа Вооза у Гюго — И сноп его не знал ни жадности, ни злобы — развивал, показывая, в каком отношении именно факт замены имени Вооз словом сноп эту метафору в данном случае создает. Благодаря этой метафоре вспыхивает вокруг фигуры Вооза ореол смысла, состоящего в предвестии грядущего его отцовства, — ореол, расцвеченный всеми смысловыми оттенками его, этого отцовства, запоздалости, невероятности, непредвиденности, его провиденциального и божественного характера. Метафора как раз и использована здесь для того, чтобы явить возникновение нового смысла вокруг персонажа, который смыслом этим, казалось бы, исключается, отторгается.
Именно в замещении заключен творческий потенциал метафоры, ее зиждительная сила, ее плодовитость.
Метафора представляет собой функцию самого общего характера. Я бы даже сказал, что только возможность подобного замещения и объясняет нам порождение, если можно так выразиться, мира смысла. Вся история языка, то есть тех функциональных изменений, благодаря которым тот или иной конкретный язык складывается, — вот тот материал, на котором — и никак иначе — следует нам метафору рассматривать.
Если бы мы попытались однажды вообразить себе модель или пример порождения и появления некоего языка в той неоформленной реальности, которую мог представлять собой мир прежде, чем в нем начали говорить, нам пришлось бы предположить наличие в нем некоей изначальной, ни к чему не сводимой данности, которая безусловно оказалась бы означающей цепочкой минимальной длины. Я не стал бы сегодня на этом минимуме настаивать, ноя уже рассказал вам на этот счет вполне достаточно для того, чтобы вы усвоили главное: именно посредством метафор, путем игры замещений на определенном месте одного означающего другим, создается возможность не только развивать в различных направлениях означающее как таковое, но и раз за разом порождать новый смысл, который всегда будет уточнять, усложнять, углублять, сообщать глубину смысла тому, что является в Реальном абсолютно непрозрачной средой.
Чтобы вам эту мысль проиллюстрировать, мне понадобился пример того, что можно назвать эволюцией смысла — именно в ней всегда проявляется, в большей или меньшей степени, механизм замещения. Как в подобных ситуациях дело обычно и обстоит, я жду, когда нужный пример мне предоставит случай. На сей раз он помог мне в лице одного из ближайших моих знакомых, который, трудясь над переводом, вынужден был полезть в словарь, чтобы уточнить значение слова atterré, и к изумлению своему убедился, что никогда раньше смысла его хорошенько не понимал. Оказалось, что изначально и в большинстве случаев употребления глагол этот означает не "пораженный ужасом" (frappé deterreur), a "похоронил" (mise-a-terre).
У Боссюэ atterrerбуквально и означает "хоронить" ("предавать земле"). В других, несколько более поздних текстах, мы можем наблюдать, как все заметнее растет в этом слове удельный вес "ужаса" (terreur), о котором пуристы сказали бы, что он заражает смысл слова terre, искажает его. И все же пуристы здесь бесспорно не правы. Никакого заражения тут нет. Даже если теперь, после того, как я напомнил вам этимологию этого слова, некоторые из вас питают иллюзию, будто atterrerи вправду означает не что иное, кякповер-нутъкземле, заставить коснуться земли, опустить до уровня земли, повергнуть, одним словом — по-прежнему остается фактом, что в повседневном употреблении слово это несет где-то на заднем плане смысловой отт^покужаса (terreur).
Попробуем исходить из какого-нибудь другого слова, которое с первоначальным значением слова atterré было бы определенным образом связано. Это, конечно, прием чисто условный, потому что происхождения слова atterré мы не найдем нигде, недопустим, что это слово abattu(поверженный, поваленный), ибо оно действительно вызывает в представлении то самое, что могло бы вызывать в представлении слово atterré в том, якобы чистом, своем значении.
Слово atterré заменяет, таким образом, слово abattu. Перед нами метафора.
Метафора эта, однако, на метафору не похожа, ибо мы исходили из предположения, что первоначально оба слова имели в виду одно и то же: "брошенный на землю" или "оземь". Именно на это я прошу вас сейчас обратить внимание — если слово atterré окажется плодотворным, если оно породит новый смысл, то вовсе не оттого что смысл его хоть в чем-то изменит смысл слова abattu.
Тем не менее, сказать, что нечто было atterré, не то же самое, что сказать, что оно было abattu. С другой стороны, какой бы оттенок "ужасного" им ни подразумевался, значения "вселять ужас", "терроризировать" оно тоже не примет. Просто в нем есть какой-то дополнительный нюанс, нечто новое, некий новый смысл. Таким образом, в психологический и уже метафорический смысл оказывается введен новый смысловой нюанс — нюанс ужаса.