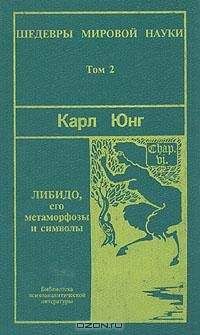Тут уже ясно слышится отречение, зависть к собственной юности, стремление к тому времени "лишенному трудов", которое так хотелось бы удержать из-за глубокого отвращения ко всякой обязательной деятельности, не вознаграждаемой непосредственным наслаждением. Трудная и продолжительная работа, направленная к далекой цели, невозможна ни для ребенка, ни для примитивного человека. Трудно решить, возможно ли прямо назвать это леностью; во всяком случае это состояние близко соприкасается с нею, ибо жизнь чувства на примитивной ступени, инфантильной ли или архаической, отличается необыкновенной косностью и произволом в своих проявлениях.
Последняя строфа не предвещает ничего хорошего: поэт вглядывается в другую страну, в берег солнечного заката или восхода. Любовь его уже не удерживает, узы, связывающие его с миром, порваны и он громко взывает о помощи, обращаясь к матери.
АХИЛЛ
"Великолепный сын богов! Потеряв возлюбленную, ты пошел на берег моря и заплакал над водами. Сердце твое, жалуясь, стремится в глубину священной пропасти, где, далеко от шума кораблей, глубоко под волнами, в мирном гроте, живет прекрасная Фетида, твоя покровительница, богиня моря. Могучая богиня была матерью юноши; она когда-то любвеобильно выкормила мальчика на утесистом берегу его острова, под могучие песни волн, и превратила его в героя, купая в подкрепляющем океане. И мать услыхала жалобу юноши, печально поднялась со дна морского, подобно легкому облачку, нежным объятием утишила страдания своего любимца и он услыхал ее вкрадчивые речи, сулящие ему помощь. Сын богов! Будь я подобен тебе, и я бы мог доверить тайное мое горе одному из небесных. Но я и глядеть не должен на это, должен переносить позор этот, точно я никогда не принадлежал ей, со слезами вспоминающей обо мне. Добрые боги! Вы все же слышите всякую людскую мольбу. С первых моих лет я глубоко и набожно люблю тебя, о священный свет дневной; сердце мое с чрезмерной тоской, с глубокой искренностью чувствовало и землю, и источники и леса твои, и тебя, о отец мой эфир! О добрые боги! Утишите же вы мои страдания, дабы душа моя не умолкла слишком рано, дабы я мог продолжать жить и благодарить вас радостной песнью в течении быстро пролетающего дня, о высокие небесные власти — благодарить за прежде содеянное мне добро, за радости промелькнувшей юности; впоследствии же великодушно возьмите к себе одинокого." [643]
Песни эти рисуют постоянное отставание и постепенно растущее отчуждение от жизни, все более глубокое опускание в материнскую пропасть собственного существа — лучше, нежели можно бы было это сделать сухими словами. К этим песням обращенной вспять тоски присоединяется, подобно некоему жуткому, загадочному гостю, апокалиптическая поэма "Патмос", как бы окутанная глубинными туманами, всеохватывающими "рядами облаков" матери, посылающей безумие. В поэме этой вновь загораются старинные мифологические помыслы, одетые символами предчувствия солнечного умирания и возрождения жизни. У подобных больных всегда можно найти сходные образы.
Вот несколько наиболее значительных отрывков из Патмоса:
"Близок и трудно постигаем Бог, но там, где опасность — там является и спасающее."
Слова эти указывают, что libido теперь достигла наибольшей глубины, где "опасность велика"[644]. Там "близок Бог": там человеку возможно найти внутреннее солнце, собственную свою солнечную обновляющуюся природу, скрывающуюся в материнских недрах, подобно солнцу в ночные часы.
"В расселинах, во мраке живут орлы и сыны Альп бесстрашно переходят через пропасти по легким мостам."
Эти слова развивают все далее это мрачно-фантастическое стихотворение. Орел, птица солнца, обитает в темноте — libido скрылась; но обитатели гор шагают по высотам — вероятно, это боги ("вы странствуете по высотам, в свете"), образы символизирующие солнце, идущее по небу, летящее над глубиной, подобно орлу.
"Потому — ибо вокруг теснятся вершины времени и наилюбимейшие находятся на близких, но разобщеннейших горах — потому даруй нам невинную воду, о даруй нам крылья проникновенного разума, дабы перелететь и вновь вернуться!"
Первые строки являются неясным изображением гор и времени (вызванным, вероятно, солнцем, странствующим над горами); следующая картина, пребывание наиболее любящих вблизи друг от друга при одновременной разлуке, вероятно относится к жизни в подземном мире[645], где мы соединены со всем, что мы когда-то любили, в то же время не будучи в состоянии наслаждаться этим счастьем — ибо все окружающее нас лишь тень и призрак, все лишено жизни. Там сошедший в глубину пьет "невинную воду", вероятно "детскую", обновляющее питье, долженствующее снова вырастить его крылья, чтобы он мог вернуться к жизни окрыленным, как окрыленный солнечный диск, подымающийся от воды подобно лебедю. ("Крылья, чтобы перелететь и вновь вернуться").
"Так говорил я. Тогда увлек меня гений скорее нежели я ожидал, вдаль от собственного моего жилища, туда, куда я никогда не думал попасть! При прохождении моем, в сумерках, смутно рисовались тенистые леса и тоскующие ручьи моей родины, но я не узнавал этой страны."[646]
После темных, загадочных слов, которыми поэт в начале своего произведения высказывает предчувствие того, что приближается, начинается солнечный путь ("ночное странствование по морю") к востоку, к восходу, к тайне вечности и возрождения, о которой мечтает и Ницше, упоминая о ней следующими словами, полными глубокого значения:
"О, как мне не гореть желанием вечности и брачного кольца колец, кольца возвращения! Никогда еще я не нашел жены, от которой хотел бы иметь детей — разве ту жену, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!"[647]
Гельдерлин выражает то же томление великолепной картиной, отдельные черты которой нам уже знакомы:
"Но скоро, в свежем блеске, в золотой дымке, таинственно расцвела передо мною Азия, приближаясь ко мне с быстротою солнца, обдавая меня запахом тысячи вершин — и я, ослепленный, стал искать того единственного, что было мне знакомо, ибо необычными казались мне широкие улицы, где от Тмола спускается украшенный золотом Пактол, где стоят Таурус и Мессагис, где сад полон цветами. Но подобно тихому огню расцветает в озаренной вышине серебряный снег, и древний плющ[648], свидетель бессмертной жизни, растет у неприступных стен; а праздничные божественно-выстроенные дворцы поддерживаются стволами живых кедров и лавров."
Это картина апокалиптическая: материнский город, стоящий в стране вечной юности, окруженный листьями и цветами непреходящей весны, как небесный город в Ганнеле Гауптмана:
"Блаженство — это дивный город, где нескончаемо царят мир и радость. Там все дома мраморные, а крыши золотые. В серебряных колодцах кипит красное вино; цветы рассыпаны по белым, белым улицам, свадебный звон постоянно раздается с колоколен. Майски зелены зубцы башен, осиянные ранним светом, окруженные порхающими бабочками, увенчанные розами…
Там, в небесной этой стране, держась за руки гуляют празднично настроенные люди. Обширное море наполнено красным вином; они окунают в него сияющие свои тела! Они окунаются в блеск и пену его — прозрачный пурпур совершенно покрывает их, а когда они, радуясь, выходят из струй, то они омыты кровью Христа!"[649]
В следующей поэме Гельдерлин отожествляет себя с Иоанном, некогда жившем на Патмосе, в соединении с "сыновьями Вышнего" и видевшим его лицом к лицу:
"Когда они сидели вместе, соединенные, в час пира, тайной виноградной лозы — и спокойно предвидя смерть великою душою, Господь высказывал им последнюю любовь…
После этого Он умер. Об этом многое можно бы сказать. И друзья напоследок еще увидали победоносный взгляд Его; Радостнейшего…
И потому Он послал им Духа; и торжественно дрогнул дом, и гремя, прокатилась божественная гроза над вещими их головами, в ту минуту, когда восторжествовавши над смертью, они сидели вместе, погруженные в глубокие думы — теперь, после того как, прощаясь, Он еще раз им явился. Ибо теперь погас царственный солнечный день и само оно, божественно страдая, переломило прямо блистающий скипетр, ибо оно должно было вернуться в предопределенное время."
Картина эта основана на жертвенной смерти и воскресении Христа: они подобны самопожертвованию солнца, добровольно ломающего свой лучистый, оплодотворяющий скипетр, уверенно надеясь на воскресение. По поводу "лучистого скипетра" надобно заметить следующее: больная госпожи Шпильрейн[650] говорит, что "Бог пронзает землю лучом". Земля для нее является женщиной. Она понимает солнечный луч на мифологический лад, как нечто упругое: "Иисус Христос доказал мне свою любовь, ударив в окно лучом своим". Ту же мысль об упругости солнечных лучей я нашел и у другого душевнобольного. Тут я должен еще указать на фаллическое свойство инструмента, данного герою. Молоток Тора, глубоко вонзающийся в землю, которую он рассекает, можно сравнить с ногой Кэнея. В глубине земли молот действует как клад, ибо в течение времени он снова постепенно выступает на поверхность, т. е. вновь рождается из земли ("сокровище расцветает"). (Ср. сказанное выше об этимологии "распухания".) Митра на многих памятниках держит в руках своеобразный предмет, сравниваемый Cumont'ом' с наполовину наполненным бурдюком. Дитерих, изучая текст своего папируса, доказывает, что инструмент этот есть плечевая лопатка барана, созвездие Большой Медведицы. Лопатка косвенно имеет фаллическое значение, ибо она — та часть тела, которой недоставало у Пелопса. Пелопс был зарезан, разрезан на куски и сварен для пира богов отцом своим Танталом. Деметра, ничего не подозревая, съела лопатку поданного ей блюда, но Зевс открыл преступление Тантала. Он заставил собрать в котел оставшиеся куски и Пелопс ожил благодаря дарующей жизнь Клото, причем недостающая лопатка была заменена другой, сделанной из слоновой кости. Замена эта является точной параллелью замены недостающего фаллоса Озириса.