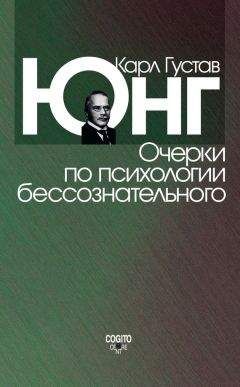так, что история слова проливает неожиданный свет на природу психического факта, за ним стоящего.
[627] В древневерхненемецком Geist и в англосаксонском gast обозначали сверхъестественное существо, противопоставляемое человеку во плоти. Согласно Клюге [503], исходное значение слова вызывает сомнения, но оно как будто связано с древнескандинавским geisa («гневаться»), готтским us-gaisyan («выходить из себя»), швейцарско-немецким uf-gaista («быть вне себя») и английским aghast («объятый страхом, пораженный»). Эта связь подкрепляется иными оборотами речи. «Быть обуянным гневом» означает, что на человека что-то находит, овладевает им, понуждает, подчиняет себе, проникает внутрь, забирается в душу и т. д. На допсихологической стадии развития, да и в поэтическом языке, обязанном своей выразительностью жизненной первобытности, аффекты и эмоции персонифицируются в образе демонов. Быть влюбленным означает, что вас пронзила стрела Амура; что Эрида бросила яблоко раздора и т. п. Когда мы оказываемся «вне себя от гнева», то очевидно, что мы перестали быть собой, что нами овладел демон или дух.
[628] Примитивное окружение, в котором когда-то возникло слово «дух», существует и поныне, на психическом, разумеется, уровне чуть ниже сознания. Но современный спиритизм показывает, что требуется крайне незначительное усилие для того, чтобы этот осколок первобытной ментальности снова оказался на поверхности. Если этимологическая цепочка верна (что само по себе вполне вероятно), то «дух» в этом смысле есть образ персонифицированного аффекта. К примеру, если некто позволяет себе увлечься неосмотрительными высказываниями, мы говорим, что он не следит за своей речью, явно подразумевая, что его речь как бы обрела самостоятельность, вырвалась и сбежала от него. С психологической точки зрения мы бы сказали, что любой аффект склонен становиться автономным комплексом, отрываться от иерархии сознания и, когда это возможно, увлекать за собой эго. Поэтому неудивительно, что первобытный разум усматривает во всем этом происки чуждых незримых существ – духов. Получается, что дух есть образ автономного аффекта, вот почему в античности уместно называли духов imagines – образами.
[629] Обратимся теперь к другим контекстам употребления понятия «дух». Фраза «Он ведет себя в духе своего покойного отца» все еще обладает двойным значением, поскольку здесь слово «дух» в равной степени отсылает и к призраку умершего, и к образцу поведения. Другие обороты речи – «привнести новый дух», «веет новым духом» и пр. – обозначают обновление ментальной установки. Притом в основе все равно лежит представление об одержимости духом, который, например, может стать spiritus rector [504] какой-то группы. Еще можно сказать так, выражая обеспокоенность: «В этой семье царит дух раздора».
[630] Тут мы имеем дело уже не с персонификацией аффектов, а с визуализацией общего образа мыслей или, выражаясь психологически, общей установки. Дурная установка, представляемая злым духом, выполняет для наивного ума практически ту же самую психологическую функцию, что и персонифицированный аффект. Многих это утверждение может удивить, поскольку под «установкой» обычно понимается отношение к чему-либо, коротко говоря, деятельность эго, причем целенаправленная. Впрочем, установка или образ мыслей далеко не всегда порождаются волением; куда чаще они обязаны своеобразием ментальному воздействию, то есть образцам и влиянию окружающей их среды. Как известно, находятся люди, дурная установка которых словно отравляет атмосферу, их дурной пример заразителен, своей нетерпимостью они раздражают других. В школе единственный озорник способен испортить настрой целому классу, а веселый и безобидный нрав (дух) ребенка в иной ситуации может рассеять мрак семейной обстановки, что, разумеется, возможно, лишь когда индивидуальные установки улучшаются благодаря положительному примеру. Вдобавок установка может возникать даже вопреки сознательной воле – как говорится, «дурная компания портит добрый нрав». Наиболее отчетливо это заметно в массовых внушениях.
[631] Значит, установка или наклонности могут навязываться сознанию извне или изнутри, подобно аффектам, и потому они могут выражаться посредством тех же самых речевых оборотов. На первый взгляд установка выглядит сложнее аффекта по своему «устройству». Но при более тщательном рассмотрении мы обнаруживаем, что это не так, поскольку большинство установок, осознанно или неосознанно, опирается на некую максиму, зачастую приобретающую форму пословицы. В некоторых случаях стоящие за установками максимы выявляются легко, и не составляет труда понять, откуда они взялись. Нередко установка даже выражается единственным словом, которое, как правило, обозначает некий идеал. Довольно часто квинтэссенцией установки выступает не максима и не идеал, а личность, почитаемая и побуждающая себе подражать.
[632] Воспитатели используют в своей работе эти психологические факты и стараются прививать полезные установки при помощи максим и идеалов; отдельные установки и вправду превращаются в руководящие принципы на всю жизнь человека. Они овладевают людьми, подобно духам. На более примитивной ступени восприятия они видятся хозяевами, пастырями, poimen или poimandres [505], воплощениями руководящих принципов в облике символических фигур.
[633] Здесь мы приближаемся к понятию «духа», которое выходит далеко за рамки анимистической картины. Мудрые изречения и пословицы суть, как правило, плоды богатого опыта вкупе с индивидуальными усилиями, подведение итога множеству наблюдений и «прозрений» несколькими меткими словечками. Если, например, подвергнуть обстоятельному анализу евангельское суждение: «И последние станут первыми» [506], попытаться реконструировать весь тот опыт, который выразился в этом изречении, то нельзя не подивиться богатству и зрелости впечатлений, положенных в основу этих слов. Это поистине «внушительное» суждение, поражающее ум, который его воспринимает, и, быть может, навсегда им овладевающее. Те изречения или идеалы, что содержат в себе богатейший жизненный опыт и глубочайшие размышления над ним, и составляют «дух» в наивысшем понимании этого слова. Когда руководящий принцип такого рода обретает абсолютную власть, мы говорим о жизни, проживаемой под этой властью, как об «одухотворенной» или «духовной». Чем весомее и чем побудительнее руководящий принцип, тем более ему присуща природа автономного комплекса, который твердо противостоит эго-сознанию.
[634] Впрочем, следует помнить о том, что эти максимы и идеалы, даже наилучшие среди них, не являются магическими заклинаниями беспредельного могущества; они утверждают свое господство лишь при определенных условиях, когда нечто в нас им откликается, когда некий аффект готов «влиться» в предложенную форму. Только через воздействие эмоций идея или любой руководящий принцип могут стать автономным комплексом; без этого воздействия идея останется подчиненным понятием, жертвой произвола сознательного разума, простым интеллектуальным инструментом без побудительной силы. Идея, которая есть всего-навсего инструмент, не оказывает влияния на жизнь, поскольку в таком состоянии она мало чем отличается от обычных слов. Наоборот, когда идея превращается в автономный комплекс, она воздействует на индивидуума посредством эмоций.
[635] Но не нужно думать, будто эти автономные установки возникают по сознательному волению и по сознательному выбору. Когда я говорю, что им требуется помощь эмоций, то с теми же основаниями мог бы сказать, что для возникновения автономной установки необходима бессознательная готовность наряду с сознательной волей. Нельзя, так сказать, захотеть стать одухотворенным. Принципы,