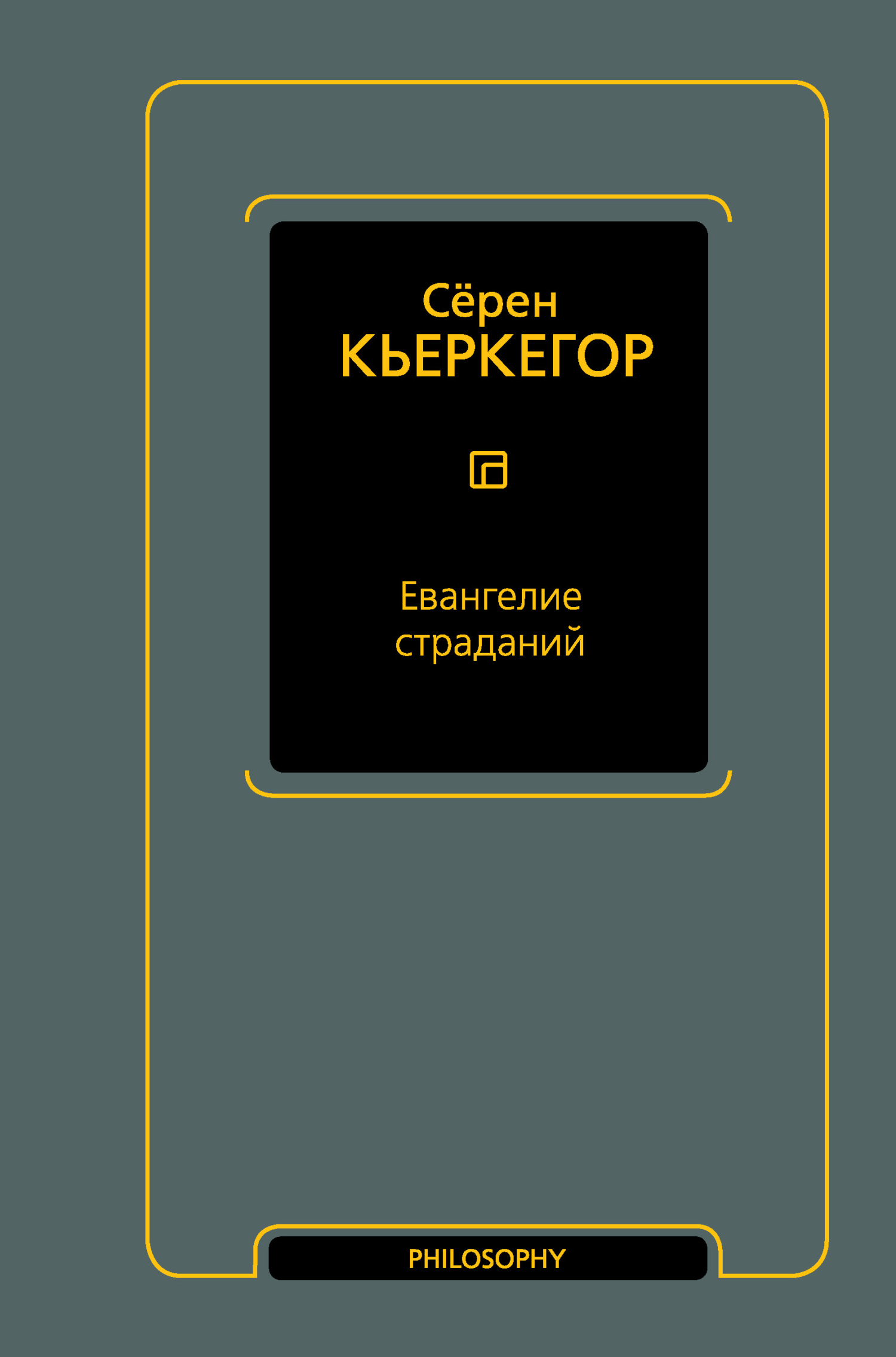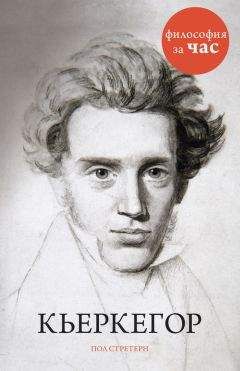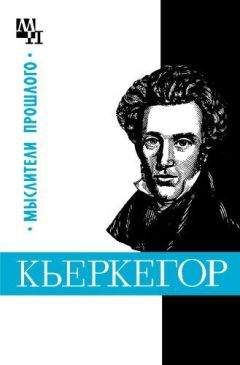тем самым он говорит так, как будто никакого бремени нет, он называет ее своей жизнью и хочет спасти свою жизнь. Как происходит это превращение? Не так ли, что в дело вступает некий помысел, некая посредствующая мысль. Бремя тяжко, говорит он и останавливается, но тут вмешивается эта мысль, и он говорит: нет, о нет, оно все же легко. Двуличен ли он потому, что говорит так? О нет, если он поистине так говорит, значит, он поистине влюблен. Таким образом, с помощью мысли, помышления, влюбленности совершается превращение.
«Иго Мое благо». Если ты, как говорится, счастливчик, а точнее, если при этом ты к тому же и легкомыслен, – ты можешь, конечно, ходить, задрав нос и выпятив грудь колесом. Но если человек влачит иго страдания, сгибаясь под его тяжестью, и при этом не знает ничего иного, как только изнемогать под тяжестью этого ига, он ходит тогда, понурив голову, онемев в бездумной уничтоженности. Бездумной; да, ведь ошибка состоит как раз в том, что ему недостает одной-единственной мысли, которая позволила бы ему по меньшей мере приподнять это иго. Для этого достаточно одной только мысли; если она и всегда нужна, то здесь особенно, – чтобы человек отличался от животного. Потому прекрасно и возвышенно звучит слово одного благородного человека, когда он, говоря о земной борьбе, требует лишь одного: дайте мне великую мысль [308]. И можно найти много прекрасных и драгоценных мыслей, которые даже если и не могут сделать иго легким, все же помогают его понести; это может быть мысль о лучших временах, на которые возлагаешь надежду, мысль о человеке, которого любишь или которым восхищаешься, мысль о долге перед другим или перед самим собой. Но тем не менее по большому счету есть лишь одна, одна-единственная мысль, которая все здесь решает, одна только мысль, благодаря которой вера превращает тяжкое иго в легкое: мысль о том, что все это во благо, что тяжкое страдание идет во благо тебе.
Но в то, что тяжкое страдание тебе во благо, в это нужно верить, увидеть это нельзя. Позже, возможно, ты сможешь увидеть, что оно было тебе во благо, но во время страдания этого нельзя ни увидеть, ни услышать, даже если многие будут тебе говорить об этом с любовью: в это нужно верить. Здесь должна присутствовать мысль веры, и нужно вновь и вновь с глубоким доверием твердить эту мысль самому себе; ведь если верно, что слово имеет власть вязать, что словом человек связывает себя навеки, то верно и то, что слово имеет власть решить, разрешать иго рабства, так что верующий свободно несет свое иго; разрешать язык, так что прекращается онемение и речь возвращается, кланяясь и благодаря. В это нужно верить. Видеть радость, когда ты сплошь окружен только радостью, это так легко, что об этом, как язык говорит почти что в насмешку, нечего и говорить; но если ты сплошь окружен несчастьем, а ты, веруя, видишь радость: да, тогда все в порядке. Все в порядке с тем, как употреблено слово: «вера», – ведь вера всегда относится к тому, чего нельзя увидеть, будь то не видимое очами или невероятное; а также для человека в порядке вещей – быть верующим.
О вере сказано [309], что она способна двигать горы. Но тяжелее горы ведь не может быть даже самое тяжкое страдание; напротив, в языке это самое сильное выражение тяжести страдания, когда говорят, что на кого-то обрушилась целая гора несчастий. Однако если страдающий верит, что страдание идет ему во благо, тогда ведь он движет горы. Так что такой человек с каждым шагом, который он делает, с каждым днем, который он проживает, движет горы. Чтобы подвинуть гору, нужно зайти под нее: ах, так идет и страдающий под тяжкое иго; и это тяжко. Но выносливость веры под игом страдания, вера в то, что ему во благо это страдание, дает ему силы поднять эту гору и сдвинуть ее. Страдающий может, наверное, растроганно и с волнением слушать, как другой с любовью, с участием, с желанием подбодрить его говорит: тебе это во благо; но это не дает ему сил сдвинуть гору; узник может в слезах слушать голос любимой, но это не делает его свободным, порой его плен становится от этого лишь тяжелее. Страдающий может слышать голос, говорящий, что ему это во благо; но если он не слышит этот голос в своем сердце, то он не сможет сдвинуть гору. Он даже может в отчаянии не желать и слышать этот голос; но это еще меньше поможет ему сдвинуть гору. Если же он, напротив, верует в то, что ему это во благо, тогда он сдвигает гору. Ведь неверно думать, будто эта чудовищная гора преграждает ему путь, и он охотно идет другим путем или желает устранить эту гору, – нет, если ему это во благо, тогда ведь и путь для него здесь проложен, и эта гора на его пути. Мысль о том, что это ему во благо, дает, – если так можно сказать, – горе ноги. Умный язычник [310] сказал: дайте мне точку опоры, и я сдвину мир; благородный человек сказал: дайте мне великую мысль: о, первое невозможно, а второе не может вполне помочь. Есть лишь одно, что может помочь, но это не может дать тебе никто другой: веруй, и ты будешь двигать горами!
Веруй, что иго во благо тебе. Это благое иго есть иго Христово. Но каково тогда это иго? Да, оно может быть крайне различным, но только то иго – Христово, о котором страдающий верит, что оно во благо ему. Тем самым, рассуждая по-человечески, не прибавляется никаких новых страданий, но и из прежних тоже не убавляется ничего; то есть все остается неизменным; и все же тем самым дана эта великая мысль, эта точка опоры вне Земли: вера. Это не изобретение мирского ума, не плод его мелочной и болтливой деловитости, без конца рассуждающей о пользе и благе: нет, это немногословная вера, которая верит в благое. Можно, пользуясь мирским умом, ползти по миру, уклониться от многих неприятностей, от некоторых отбрехаться, для некоторых найти средство, позволяющее их разрешить; но все это так же далеко отстоит от веры, как от того, чтобы двигать горы.
Когда вера держится благого и движет гору, тогда радость веры столь велика, что иго поистине легко. Именно представление о том, насколько тяжело то, что, однако, удается сделать с помощью веры, делает иго легким. Когда кто-нибудь