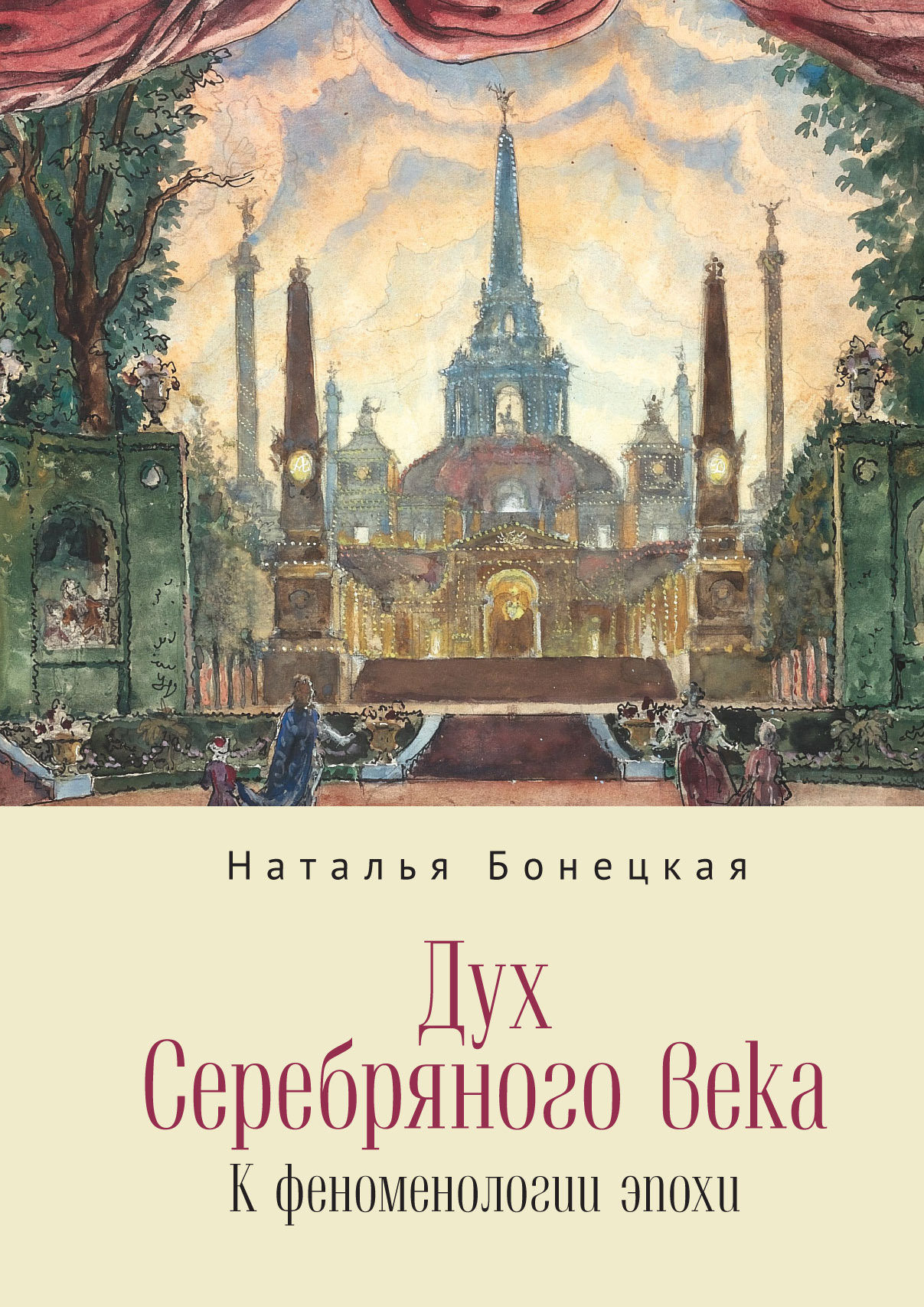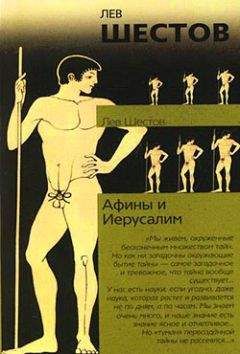priori.
Учителя и ученики. Разум judex et princeps omnium, [172] как выразился Ансельм Кентерберийский, – кажется, достаточно почета? Нет, недостаточно: разум хочет быть творцом и единственным творцом всего. Нужно полагать, что все попытки борьбы с разумом были попытками борьбы с его несоразмерными претензиями. Разуму мало быть князем и судьей, он хочет, как старая ведьма в сказке, чтоб сама золотая рыбка у него на посылках была. И это не образ и не преувеличение: так оно есть на самом деле. На многих притязания разума производят неотразимое впечатление: если он требует себе покорности – значит, имеет на то права. Но иных требования разума удручают. В житии Авраама Смоленского рассказывается, что ученики «унывали» от учителей. И о Сергии Радонежском передают, что он от учителя «томим был». Ведь учителя только и живут от милостей разума. Ученики же, которых принуждают покоряться несуществующему всемогуществу, унывают и томятся.
Истина и тайна. «Посвященный» не есть «знающий» – т. е. человек, однажды навсегда овладевший «тайной». Тайной нельзя овладеть однажды навсегда, как овладевают истиной. Тайна приходит и уходит: и, когда она уходит, посвященный оказывается самым ничтожным из ничтожных детей мира. Ибо обыкновенные дети мира о своей ничтожности ничего не знают и даже считают себя очень стоящими существами, а «посвященный» знает, и это знание делает его среди ничтожных самым ничтожным. Так свидетельствует Пушкин. Так свидетельствует св. Бернард Клервоский: «Pro his vero (annis) quos vivendo perdidi, quia perdite vixi, cor contritum et humiliatum Deus, non despicias». [173] Но люди не верят ни Пушкину, ни святым. Им нужно преклоняться пред великими людьми и святыми. А тот, кто хочет преклоняться, должен прежде всего научиться «великому искусству» – не видеть.
Clare et distinctе. Циники были убеждены, что действительность ищет света, и свое убеждение бесстрашно демонстрировали самыми отвратительными поступками. Хам тоже добивался ясности и отчетливости и обернулся на наготу отца своего. Но ведь все философы были убеждены, что свет всегда уместен, отчего же они называли циников собаками и отворачивались от Хама? Что или кто удерживал их от того, чтоб, подобно циникам и Хаму, все выносить на свет? Очевидно, недаром даже сам Сократ искал защиты от ясности и отчетливости у демона своего: есть истины, которые не хотят быть истинами для всех; и их добывают из особого источника, который уже ни в прямом, ни в переносном смысле никак светом назвать нельзя.
Вера и доказательства. Гейне рассказывает, что, когда он был мальчиком, он всегда дразнил своего учителя французского языка. Тот, бывало, спросит: как по-немецки сказать la foi, Гейне отвечал der Kredit. Сейчас многие – и не мальчики, а взрослые, серьезные люди, и не в насмешку, а добросовестно – отождествляют веру с кредитом. Им кажется, что вера есть то же знание, только что доказательства берутся в кредит, под словесное обещание, что они в свое время будут представлены. И никого не убедишь, что сущность веры и ее величайшая, чудеснейшая прерогатива в том, что она в доказательствах не нуждается, что она живет «по ту сторону» доказательств. Такая привилегия кажется либо privilegium odiosum, либо, что еще хуже, плохо скрытым неверием. Ибо истина, к которой не могут быть, посредством доказательств, принудительно приведены все, – что это за истина?
Истина и признание. Когда человек старается убедить других в своей истине, т. е. сделать то, что ему открылось, обязательным для всех – он обыкновенно думает, что руководствуется высокими побуждениями: любовью к ближним, желанием просветить темных и заблудившихся и т. д. И теория познания и этика его в этом поддерживают: они устанавливают, что истина едина и истина есть истина для всех. Но и теория познания с этикой и человеколюбивые мудрецы равно плохо различают, откуда приходит потребность приведения всех к единой истине. Не ближних хочет облагодетельствовать тот, кто хлопочет о приведении всех к единой истине. До ближних ему мало дела. Но он сам не смеет и не может принять свою истину до тех пор, пока не добьется действительного или воображаемого признания «всех». Ибо для него важно не столько иметь истину, сколько получить общее признание. Оттого этика и теория познания так озабочены тем, чтобы, по возможности, ограничить права вопрошающих. Еще Аристотель называл всякую «преувеличенную» пытливость невоспитанностью. Такое соображение или, вернее, такой отвод никому бы не показался убедительным, если бы для людей признание их истины не было бы важнее, чем сама истина.
Тайна материи. Аристотелевское определение материи как δυνάμει ων, как существующей только в возможности, сыграло огромную роль в истории развития наук и, пожалуй, до сих пор продолжает направлять все наше мышление. Потенциальное бытие материи «естественно» объясняет нам те бесконечные и загадочные превращения, которые мы наблюдаем в мире. Атомистическая теория, теория электронов, даже чистая энергетика – все это держится на идее, что материя существует только потенциально или, другими словами, что материя есть ничто, из которого могут создаваться и создаются самые необыкновенные вещи. Конечно, ни Аристотель, ни кто бы то ни было из его учеников и последователей такого никогда не говорил. Мысль о том, что из «ничто» может произойти что бы то ни было, хотя бы самое малое и незаметное, была глубоко противна, прямо невыносима и для самого Аристотеля, и для всех, кто шел за ним, – а кто за ним не шел? В том и состояла заслуга Аристотеля, что ему удалось «приручить» и «облагообразить» эту дикую и фантастическую, но из всех пор бытия выпиравшую мысль. Вместо того чтобы сказать – никакой материи нет, а есть капризно, непослушно, самовольно, вопреки всякой разумной очевидности возникшие и продолжающие возникать вещи, он сказал: материя есть нечто существующее только в потенции. Слово «в потенции» проглотило и, по-видимому, благополучно переварило и каприз, и своеволие, и даже оскорбленные самоочевидности. Благодаря магическому заклинанию, загадка и тайна сразу перестали быть загадкой, фантастическое превратилось в естественное. Раз материя существует только потенциально, значит, из нее можно что угодно извлечь, ибо в этом именно и смысл идеи потенциальности. Загадка, говорю, исчезла, похоронена, и – казалось – похоронена навеки. Уже нет надобности и спрашивать, каким чудом из несуществующей материи происходят все те необыкновенные вещи, которыми полон мир. И как из одной и той же материи возникают столь мало одна на другую похожие вещи, как, например, дорожная пыль или смрадная