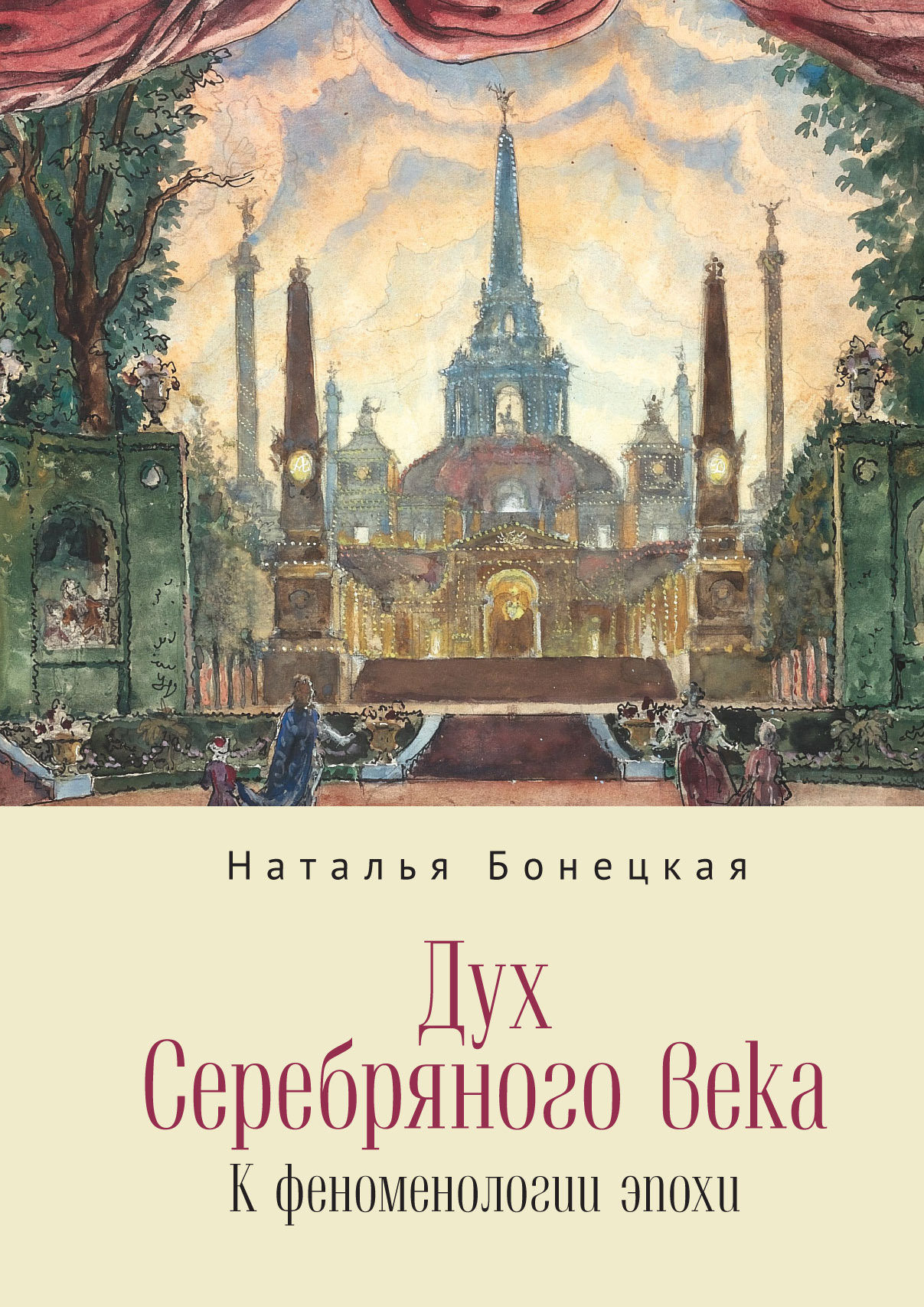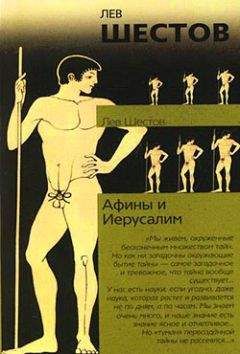в этике – потускневшая и ослабевшая необходимость: долженствование. Иначе современная мысль не может сдвинуться с места.
Удачи и неудачи. Платон утверждал, что древние, блаженные мужи были лучше нас и жили ближе к Богу. Похоже, что это правда. Во всяком случае, кто изучал историю философии, никак не скажет, что тысячелетние напряженнейшие искания человеческого ума приблизили нас к последней истине, к вечным источникам бытия. Но эта тысячелетняя, ни к чему не приводящая и потому многим кажущаяся напрасной борьба человеческой души с вечной тайной может служить порукой, что постигающие философию неудачи не обескуражат людей и на будущее время. Приближаемся ли мы к Богу или отдаляемся, становимся ли мы лучше или худее наших далеких и близких предков, от исканий, от борьбы нам не дано отказаться. По-прежнему будут неудачи, но по-прежнему неудачи не остановят новых попыток. Человеку нельзя остановиться, нельзя перестать искать. И в этом сизифовом труде – великая загадка, которую нам тоже вряд ли удастся разгадать, но которая невольно наводит на мысль, что в общей экономии человеческого делания удачи не всегда имеют определяющее и решающее значение. Положительные науки привели к несомненным и огромным результатам, метафизика не дала ничего прочного, ничего верного. И все же, может быть, метафизика в каком-то смысле нужнее и значительнее положительных наук, и неудачные попытки продвинуться в область вечно для нас скрытого ценнее удачных попыток изучить то, что лежит на виду и, при некоторой настойчивости, открывается всем людям. Если это так, то кантовские возражения против метафизики сами собой отпадают. Метафизика не дала ни одной общеобязательной истины – это правда. Но это не есть возражение. «По самой своей природе» метафизика не хочет и не должна давать общеобязательные истины. Того больше: в ее задачи входит обесценивать и те истины, которые науками добываются, и самую идею общеобязательности как признака истины. Так что если уже пошло на то, чтоб, как хотелось Канту, свести на очную ставку метафизику с положительными науками, то вопрос нужно обернуть и спросить приблизительно так: метафизика, отыскивая источник бытия, не нашла всеобщей и необходимой истины; положительные науки, исследуя то, что из этого источника вытекло, нашли много «истин». Не значит ли это, что истины положительных наук есть истины ложные или по крайней мере скоропреходящие, мгновенные?..
Я думаю, что после Канта нельзя подходить к философии или проблемам, не освободившись предварительно от созданного им гипноза о связи и взаимоотношениях метафизики и положительных наук. В противном случае все наши попытки судить о последних вопросах бытия заранее осуждены на бесплодие. Мы все будем бояться неудач и вместо того, чтоб приближаться к Богу, будем уходить от Него. Все вероятия, что Платон именно потому и считал древних мужей блаженными, что они были свободны от страхов пред положительными истинами и не знали еще тех цепей познания, которые он так мучительно чувствовал на себе.
Эмпирическая личность. Те редкие мгновения, когда очевидности теряют власть над человеком, как использовать их для философии? Они предполагают особого рода душевные состояния, при которых то, что всегда нам кажется наиболее значительным, существенным, даже единственно реальным, вдруг начинает казаться неважным, ненужным, даже призрачным. А философия хочет быть объективной и пренебрегает «душевными состояниями». Значит, если погонишься за объективностью – неизбежно попадешь в лапы самоочевидностей, захочешь освободиться от самоочевидностей, придется, прежде всего, вопреки традициям, пренебречь объективностью. Конечно, вообще говоря, никто на последнее не пойдет. Всякому лестно добыть такую истину, которая хоть немножко, хоть чуточку будет истиной для всех. Только наедине с собой, под непроницаемым покровом тайны индивидуального бытия (эмпирической личности) мы иногда решаемся отречься от тех действительных и мнимых прав и преимуществ, которые нам даются принадлежностью к общему для всех миру. Тогда вспыхивают пред нами последние и предпоследние истины – но они нам самим кажутся больше похожими на сновидения, чем на истины. Мы легко забываем их, как забываем сновидения. А если и сохраняем о них смутные воспоминания, то не знаем, что делать с ними. Да, по правде сказать, с такими истинами и делать нечего. Разве что переводить их на музыку слов и ждать, пока другие, которые только понаслышке, а не по собственному опыту знают о такого рода видениях, придадут им форму суждений и, убивши их, сделают их всегда и для всех нужными, т. е. понятными и тоже «очевидными». Но это ведь будут совсем не те истины, которые нам открылись. И они уже принадлежат не нам, а всем, тому «всемству», которое так ненавидел Достоевский и которое Соловьев, друг и ученик Достоевского, желая угодить традиционной философии и традиционному богословию, под менее одиозным названием соборности сделал краеугольным камнем своего мировоззрения. Тут и выявляется основная противуположность между «мышлением» Достоевского, с одной стороны, и мышлением той школы, в которой получил свою выучку Соловьев. Философия Достоевского была бегством от всемства к себе. Соловьев же, наоборот, бежал от себя к всемству. Для него живой человек, то, что школа называет эмпирической личностью, казался главным препятствием на пути к истине. Он думал или, лучше сказать, утверждал (кто может знать, что человек думает?), как и те, у которых он учился, что, пока не выкорчуешь из себя своей «самости» (т. е. не преодолеешь и не уничтожишь своей эмпирической личности), истины не увидишь. А Достоевский знал, что Истина открывается эмпирической личности и только эмпирической личности…
Диалектика. Мышление, учил Платон, есть неслышная беседа души с собой. Конечно, если мышление есть мышление диалектическое. Тогда, даже оставаясь наедине, человек не может молчать и продолжает разговаривать: ему все мерещится противник, которому нужно что-то доказать, которого нужно убедить, принудить, вырвать у него согласие. Последний великий платоник, Плотин, однако, такого мышления уже не выносил. Он хотел истинной свободы, при которой ни сам не принуждаешь, ни тебя не принуждают. И разве, в самом деле, представление о такой свободе есть только фантазия? И наоборот, разве идея принуждающей необходимости, которой живет диалектика, так уже непреоборима? Конечно, доказывать и принуждать может только тот, кто взял в руки меч необходимости. Но поднявший меч от меча и погибнет. Кант только потому и мог погубить метафизику, что метафизика хотела принуждать. И до тех пор, пока метафизика не решится бросить оружие, она будет оставаться рабой и прислужницей положительных наук. Мышление не есть беседа души с собой, мышление есть, вернее, может быть много большим, чем беседа, и обходиться без диалектики. Об этом сказано у Пушкина: