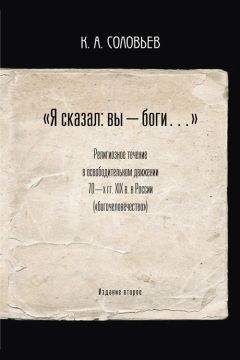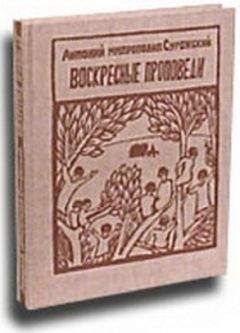Избыточную «кровожадность» этих строк можно списать за счет юношеского радикализм. Однако и через десять лет, в то время, когда Маликов и Зайчневский тесно общались друг с другом в Орле, автор «Молодой России» отнюдь не отказался от своих «террористических» убеждений. Маликов получил в собеседники, может быть самого «крайнего» и самого «красного» из тех деятелей освободительного движения 1860-х – 1870-х гг., кто в это время был в России и на свободе. О тесном общении Маликова и Зайчневского мы узнаем из показаний последнего в полиции. А косвенным свидетельством их бесед и споров стали письма Маликова. Они так и дышат устной полемикой, что было вообще в характере основателя «богочеловечества». В письмах же к жене написанных в апреле 1874 г. он как будто продолжает пять минут назад закончившийся спор, постоянно устные используя полемические обращения, повторы, отсылки к мнению «кровавых революционеров», обороты вроде: «вы говорите – а я говорю». Причем элементами устной полемики, более всего насыщено то письмо, в котором Маликов впервые сообщает жене о содержании «новой религии». Среди орловских знакомых Маликова и тех, кто к нему приезжал весной 1874 г. таким «кровавым», по убеждениям, революционером мог быть только автор «Молодой России». Образ «невидимого» оппонента в письмах и речах Маликова явно списан с П.Г. Зайчневского, который никогда не стеснялся решительности собственных суждений. Но его язвительные реплики и резкие суждения не сбивали Маликова с мысли. Скорее – стимулировали его вдохновение, повышали «градус» полемических высказываний позволяли оттачивать собственную аргументацию.
Возможность вторая. Город Орел расположен в центре России. Он был одним из связующих звеньев в цепочке революционных организаций и близких к ним кружков. Молодежь, по словам С.Ф. Ковалика, «толпилась» вокруг Маликова, прибывая в Орел из столиц и периферийных городов [36,105]. Он же получал самые свежие известия о том, что происходило в кружках революционно настроенной молодежи, и мог определить те тенденции, которые наметились в освободительном движении на рубеже 1873–1874 гг. Скорее всего, не прошло мимо его внимания обсуждение членами кружка «чайковцев» программной записки П.А. Кропоткина «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя», написанной в 1873 г. А в ней, наряду с другими, были и такие положения:
«Помещики, оставшиеся в живых (здесь и далее курсив мой – К. С.) могут обрабатывать мирскую землю наравне с прочими крестьянами (…). Бывшие хозяева фабрик, которые остались в живых, могут быть наравне со всеми быть приняты на всякую фабрику (…). Мы совсем не ласкаем себя надеждою, что с первой же революцией идеал осуществиться во всей полноте, мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуется еще много лет, много частных, может даже общих взрывов (…) чем больше будет уничтожено с первого же шага культурных форм, мешающих осуществлению социалистического строя (…) тем мирнее будут последующие перевороты» [43,78–79 и 84].
Обратим внимание на три момента, связанных с этими положениями. Первый: Кропоткин предрекает начало эпохи уничтожения высших слоев общества. Второй: он предполагает, что эта эпоха будет достаточно длительной, чтобы вместить в себя «череду взрывов». Значит, люди успеют привыкнуть к насилию и уничтожению, как к способу решения общественных конфликтов. Третий: предрекая (и приветствуя) разрушение «культурных форм», Кропоткин вступил в полемику именно с той частью взглядов А.И. Герцена, которая более всего совпадала с воззрениями А.К. Маликова.
Одобрение этой записки большинством членов кружка «чайковцев» [76,62] отчетливо указывало на перемену вектора развития освободительного движения. И этот новый вектор совсем не совпадал ни с настроением Маликова, ни ходом его мысли. Особые возражения должны были вызвать те рассуждения Кропоткина, в которых он предлагал концепцию «затухающего» революционного насилия, в которой каждый последующий переворот должен был быть «мирнее» предыдущего. Маликов же, чем больше он рассуждал на эту тему, тем более отчетливо высказывал мысль о нарастающем насилии в обществе, приводящем не к утверждению нового идеала, а к уничтожению самой возможности прогрессивного общественного развития (подробнее об этом – чуть далее).
В начале 1874 г. широкое распространение в народнических кругах получило еще одно программное сочинение – книга М.А. Бакунина «Государственность и Анархия» и, в особенности «Прибавление А» к этой книге. В нем Бакунин с наибольшей полнотой и определенностью высказал свои мысли о задачах освободительного движения в России и тех средствах, с помощью которых эти задачи могут быть решены:
«Русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своей молодежью, когда он встретиться с ней в своей жизни, в своей беде, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких» [5,54].
То, что весь пафос своей проповеди А.К. Маликов направил не столько против Нечаева, Ткачева или даже Зайчневского, сколько против Бакунина не скрывал и сам автор «богочеловечества». Он только однажды заменил в своих письмах безличное определение «революционеры» на конкретное имя. И поместил его в рассуждении, к которому более всего подходит определение «гневная филиппика»:
«Злоба и ненависть только будут расти от этих крови и драк, затем уныние и отчаяние, утомление, и тут-то встанут новые цари и диктаторы – хуже нынешних. А разве Бакунин, взывая к разрушению и крови, сам не готовится в диктаторы, или вы думаете, что он будет глуп со своей точки зрения, так подл, что позволит заправлять делом, которому он посвятил всю свою жизнь, каким-нибудь (…) ребятам. Пусть хорошенько вдумаются все в его труды, и они найдут справедливыми мои слова» [13-1032,5об.].
Маликов выступил со своей проповедью в том самый момент (не просто 1874 г., но его страстная неделя, в том году пришедшаяся на конец марта), когда призыв Бакунина «встретиться с русским народом», обращенный к «передовой» молодежи, не только нашел отклик, но и начал воплощаться на практике. Насколько точно был выбран момент, свидетельствуют воспоминания одного из участников «хождения в народ» – А. О. Лукашевича:
«Незаметно подошла и прошла Пасха. (…) Можно было подумать и о выступлении в новый поход. Но меня задержало в Москве особое и еще небывалое у нас обстоятельство: мы узнали, что в Москву едет из Орла талантливый и популярный пропагандист – один из старших и наиболее уважаемых деятелей (Н. В. Чайковский – К. С.) – с целью прочитать на ряд лекций – проповедей в духе появившейся в Орле «новой религии» [48,21].
«Богочеловечество» объявило об альтернативе общей тенденции к нарастанию насилия в освободительном движении, носителями которой в то время были последователи Бакунина. Учение Маликова, поэтому можно назвать антибакунинским. Чтобы убедиться в этом, достаточно, не вдаваясь даже в маликовскую критику революционеров, сравнить «Прибавление А» и «Тезисы новой религии» в изложении Д. Айтова.
Выдвигая собственную, противоположную бакунинской, программу действий, Маликов, очевидно, осознавал, что стремлению к материальному достатку можно противопоставить только стремление к нравственной гармонии. Поэтому он и создал «новую религию», поэтому и обратился, в первую очередь к своим товарищам. В своих проповедях он рассчитывал встретить отклик со стороны тех участников революционных кружков, для кого перспектива, рисуемая Бакуниным и Кропоткиным, была неприемлемой. Все те, кто в дальнейшем стали участниками движения «богочеловечества», весной 1874 г. были или непосредственными участниками демократического движения или примыкали к нему. Но безусловно наибольший эффект в народнической среде произвело «обращение» в «новую веру» одного из самых авторитетных и наиболее уважаемых деятелей кружка «чайковцев» – самого Н.В. Чайковского.
Сам Николай Васильевич, уже после того, как надежды на торжество идеалов «богочеловечества» рухнули, неоднократно пытался объяснить, что же все-таки с ним произошло. Первый раз он описал свои мысли и поступки весны 1874 года в 1878 г., в письме к Л. Сердюковой. Второй раз – в 1913 г., в автобиографии, для сборника, посвященного пятидесятилетию «русских ведомостей». Третий – в «Открытом письме друзьям», в 1926 г. Между первым и вторым объяснением прошло более 30 лет, между вторым и третьим – еще более десяти. Но если не считать разницы в интонации (первое письмо – исповедь другу, второе – полуофициальная биография, третье – публичная оценка своей жизни политиком, стоящем на пороге смерти), все три объяснения не противоречат друг другу. Все вместе они составляют своего рода психологический портрет человека, пережившего чрезвычайно глубокий нравственный кризис и даже более того, потерявшего цель и смысл жизни. В «Автобиографии» – первом публичном объяснении своего поступка 1874 г., Чайковский писал о своем неверии в то, что хождение в народ «на почве проповеди утопического милленизма может привести к серьезным результатам». Кроме того, его не устраивала ограниченность народнического мировоззрения: