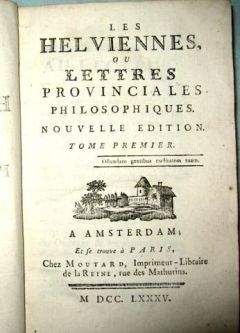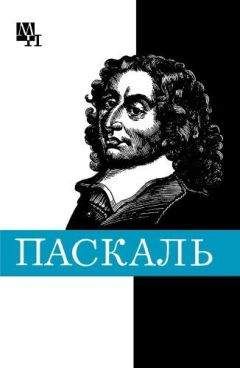В том же самом духе придумали они это редкое и совершенно новое изобретение получаса и песочных часов'[96]. Применив его, они избавились от назойливости тех ученых, которые принимались опровергать все их доводы, ссылались на книги, чтобы уличить их во лжи, принуждали отвечать, совершенно лишая возможности для возражений.
Они понимали достаточно ясно, что это лишение свободы, которое вынудило такое большое число ученых устраниться от заседаний[97], не принесет добра их цензуре и что формальный протест о незаконности, заявленный г — ном Арно еще до постановления цензуры[98]·, будет плохим введением для благоприятного приема ее. Они вполне уверены, что для людей не предубежденных мнение семидесяти ученых, которые ничего не выигрывали, защищая г — на Арно, имеет по крайней мере столько же значения, как и мнение сотни других, которые ничего не теряли, осуждая его.
Но они порешили в конце концов, что все — таки много значит добиться цензуры, хотя она исходила только от одной партии в Сорбонне, а не от всей корпорации, хотя она получена была при помощи стеснения или даже лишения свободы и путем многих мелочных и не совсем уж правильных средств: хотя она и не объясняет того, что могло подлежать спору, хотя она и не указывает, в чем состоит эта ересь, и хотя в ней мало чего сказано из опасения сделать промах. Это молчание должно даже казаться тайной для людей простых, а цензура извлечет из него еще ту особенную выгоду, что самые требовательные и проницательные теологи не смогут найти в ней ни одного слабого довода.
Итак, успокойтесь и не опасайтесь сделаться еретиком, пользуясь осужденным положением. Оно дурно только во втором письме г — на Арно. Вы не полагаетесь на мое слово? Поверьте тогда г — ну Лемуану, самому рьяному из следователей[99]: еще сегодня утром в разговоре с одним ученым из числа моих знакомых, который спросил, в чем состоит эта разница, о которой идет речь, и неужели не разрешается более говорить то, что говорили отцы церкви, он великолепно ответил: 4 Положение это было бы католическим во всяких других устах: Сорбонна осудила его только у г — на Арно». И, таким образом, подивитесь на махинации молинизма, которые производят столь чудовищные перевороты в церкви, что то, что считается католическим у отцов церкви, становится еретическим у г — на Арно; что то, что было еретическим у полупелагиан[100] становится ортодоксальным в писаниях иезуитов; что столь древнее учение св. Августина объявляется невыносимым новшеством, а новые выдумки, которые каждый день сочиняются на наших глазах, выдаются за древнее учение церкви. На этом он расстался со мной.
Это указание пригодилось мне. Я понял из него, что здесь ересь нового рода. Ересь не в мнениях г — на Арно, а в самой его личности. Это личная ересь. Еретик он не за то, что он говорил или писал, а только за то, что он г — н Арно. Вот все, что достойно порицания в нем. Что бы он ни делал, пока он не перестанет существовать, он никогда не будет добрым католиком. Благодать св. Августина никогда не будет истинною, пока он будет защищать ее. Она сделалась бы таковою, если бы он вздумал опровергать ее. Это было бы верным приемом и почти единственным средством установить ее и разрушить молинизм: столько несчастья приносит он тем мнениям, которые защищает.
Итак, оставим их разногласия. Это препирательства теологов, а не теологические прения. Так как мы не доктора богословия, нам нечего делать в их распрях. Сообщите известие о цензуре всем нашим друзьям и любите меня настолько же, насколько я есть.
Ваш нижайший и покорнейший слуга.
Е. А. А. В. Р А Е D. Е. Р.[101]
О действующей благодати, всегда присущей, и о грехах неведенияПариж, 25 февраля 1656 г.
Милостивый Государь!
Иезуиты бесподобны! Видал я и якобинцев, и докторов богословия, и всякого рода людей: только знакомства с иезуитами недоставало мне для полноты моих познаний. Другие только подражают им. Всякая вещь лучше у своего источника. Итак, я познакомился с иезуитом, одним из самых сведущих. Меня сопровождал мой верный янсенист, который был со мной и у якобинцев. Так как я в особенности желал получить разъяснение относительно одного существуюшего у них с янсенистами разногласия, касающегося того, что они называют действующей благодатью, я сказал этому доброму патеру, что был бы ему очень обязан, если бы он согласился выяснить мне этот вопрос; что я не знаю даже, как следует понимать это выражение; словом, я просил его объяснить мне это.
— Очень охотно, — сказал он, — потому что я люблю людей любознательных. Вот наше определение: мы называем действующей благодатью откровение от Бога, через которое он выражает нам свою волю и побуждает нас желать ее исполнить.
— В чем, — спросил я его, — расходитесь вы с янсенистами в этом вопросе?
— В том, — отвечал он, — что, согласно нашему утверждению, Бог ниспосылает действующую благодать всем людям при каждом искушении, ибо мы считаем, что если бы у нас при всяком искушении не было действующей благодати, чтобы удержать нас от греха, то, какой бы грех мы ни совершили, он не может быть вменен нам. Янсенисты, напротив, говорят, что грехи, совершенные без действующей благодати, не становятся от того невменяемыми: но они мечтатели.
Я догадывался, что он хотел сказать, но, чтобы заставить его высказаться еще яснее, сказал ему:
— Отец мой, меня сбивает это понятие, «действующая благодать», я к нему не привык; если бы вы были добры сказать мне то же самое, не употребляя этого выражения, вы бы обязали меня бесконечно.
— Хорошо, — сказал патер, — вы, значит, желаете, чтобы я заменил определяемое определением; это не может изменить смысла речи; я согласен. Мы, следовательно, утверждаем как неоспоримый принцип, что «деяние не может быть вменено в грех, если, прежде чем мы совершим его, Бог не даст нам познания зла, заключенного в нем, и внушения свыше, которое побуждало бы нас избегать его»[102]. Понимаете вы меня теперь?
Удивленный подобным толкованием, по которому все грехи не преднамеренные и те, которые делаются в полном забвении Бога, не вменяются нам, я посмотрел на моего янсениста и ясно увидел по его выражению, что он нисколько не верит этому. Но, так как он не возражал ни слова, я сказал патеру:
— Желал бы я. отец мой, чтобы то, что вы говорите, было истиной и чтобы у вас на то были верные доказательства.
— Вы хотите доказательств? — подхватил он тотчас же. — Позвольте, я сейчас доставлю вам самые лучшие доказательства; И он вышел за своими книгами. А я сказал тем временем моему другу:
— Неужели найдется у них кто — либо другой, кто бы говорил подобным образом!
— Это для вас такая новость? — ответил он. — Будьте уверены, что никогда отцы церкви, папы, соборы, св. Писание, ни одна книга религиозного содержания, даже за это последнее время, не говорили таким образом; но что касается казуистов и новых схоластиков, он принесет их вам в изрядном количестве.
— Что мне в них, — сказал я. — К чему мне эти авторы, если они расходятся с преданием?
— Вы правы, — ответил он.
Но в эту минуту вошел добрый патер, нагруженный книгами, и, протягивая мне первую, сказал:
— Вот прочтите, это Сумма грехов отца Бони, да еще и в 5–м издании, чтобы вы убедились, что это хорошая книга.
— Жаль только, — сказал мне тихо мой янсенист, — что эта книга была осуждена в Риме и епископами Франции[103].
— Откройте, — сказал патер, — страницу 906.
И я прочел следующие слова: «Чтобы совершить грех и быть виновным перед Богом, нужно сознавать, что собираешься совершить поступок недостойный, или, по крайней мере, сомневаться, опасаться; или же, понимая, что Богу не угодно это действие, что Он его воспрещает, тем не менее совершить его, дерзнуть и преступить».
— Вот это хорошее начало, — сказал я.
— Посмотрите, однако же, — продолжал он, — что значит зависть. Именно за это место и смеялся г — н Алье над отцом Бони, прежде чем перешел в число наших друзей[104], и применял к нему слова: Ессе qui tottit peccata mundi («Вот тот, который берет на себя грехи мира»[105]).
— Сказать правду, — заметил я, — это совершенно новое искупление, по отцу Бони.
— Не хотите ли более верного авторитета? Вот загляните в эту книгу отца Анна[106]. Это последняя написанная им против г — на Арно[107]; прочтите страницу 34, где загнут угол, и обратите внимание на строки, которые я отметил карандашом, — это чистое золото.