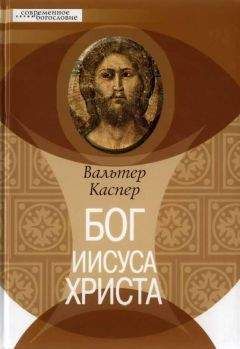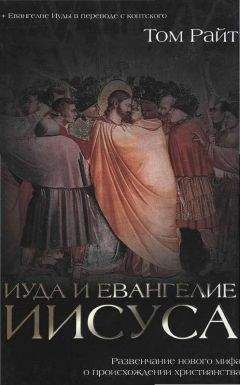В конце концов на 6-м Вселенском соборе (680–681) было догматически провозглашено диофелитство и диоэнергизм во Христе: «И две природных воли или хотения в Нем, и два природных действия, неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно, по учению Святых Отец наших, также проповедуем; два же природных хотения не противоположны, как говорили нечестивые еретики – да не будет! – но Его человеческое хотение последует (а не противостоит или противоборствует), лучше же сказать, подчиняется Его Божественному и всемогущему хотению».
Учение о двух волях и двух действиях во Христе снимает популярный вопрос критиков христианства «зачем Иисус молился Богу – ведь Он сам Бог, значит, молился Он самому себе?» По сути дела, люди, задающие этот вопрос, критикуют не ортодоксальное христианство, а монофелитство. Точно так же те, кто говорит, что Иисус, будучи Божеством, не мог по-настоящему страдать на кресте, по сути дела критикуют монофизитство, в простоте своей принимая его за ортодоксию.
Иисус, несомненно, мог молиться Богу Отцу, ощущая Его в своем человеческом сознании как иную ипостась Своего Божества, Его – как Рождающего, Себя – как Рожденного. Его волю он познавал Своим Божеством, Предвечным Логосом, с которым человеческий разум и душа Иисуса пребывали в постоянном таинственном общении. Он обращался к Богу как человек, и к Рождающему – как Рожденный, как Логос. Его молитва отличалась от нашей, по сути, только тем, что присутствие Бога Он ощущал постоянно, и то, что для большинства из нас загадка – знать волю Бога о себе – для Иисуса было открытой книгой. Оставаясь свободным, Он мог бы противиться этой воле. Но Он исполнил ее.
Последней христологической ересью, всколыхнувшей христианский Восток, стало возникшее в VIII веке иконоборчество . Опять вопрос, казалось бы, не относящийся непосредственно к христологии: «Допустимо ли изображать Христа и почитать эти изображения, если фактически на них отражена только человеческая Его природа?» – оказался формой постановки проблемы о полноте Боговоплощения, о возможности умозрительного расчленения в Нем Божественного и человеческого.
Иконоборчество (запрет на изображение Христа и святых или, в мягкой форме, на выражение перед ними знаков почтения изображенным на них лицам) для многих выглядело привлекательным. Во-первых, из политических соображений – ради взаимоотношений с набирающим силу и международный вес исламом. Из соображений духовных – потому что в народном благочестии почитание священных изображений стало принимать неуместные и соблазнительные формы, близкие языческому идолопоклонству Император Михаил Травл (ум. 829) писал Людовику Благочестивому, вероятно, не слишком сгущая краски, что неумеренные почитатели икон «поклоняются им и ожидают именно от икон себе помощи. Многие облекают их льняными покровами и делают их кумовьями при крещении детей, другие, принимающие на себя монашество, оставили прежний обычай, чтобы кто-нибудь из известных лиц при их пострижении получал волосы в свои руки, а кладут волосы на иконы. Некоторые пресвитеры и клирики соскабливают даже краски с икон и примешивают их к евхаристии. А иные кладут евхаристию на иконы и отсюда уже причащаются. Иные совершают евхаристию не в церквах, а в частных домах, и притом на иконах, которые служат вместо престола».
Конечно, такая практика вступала в вопиющее противоречие с ортодоксальным пониманием иконопочитания. Собор 787 года (VII Вселенский) четко отделил изображения как от лиц, на них изображенных («первообразных»), так и от материала, из которых они изготовлены, и который не являются объектом ни «почитательного поклонения» ( проскинезис , поклон), ни, тем более, «истинного поклонения ( патриа , служение), «которое подобает одному лишь Божескому естеству». Догматическое определение собора объясняло, казалось бы, очевидную вещь: «честь, воздаваемая образу, адресуется первообразному, и кланяющийся перед иконой кланяется ипостаси изображенного на ней». Поэтому изображение Христа по Его человеческой природе (которая только и имеет образ) изображает Богочеловека – не потому что на ней отражается и Его Божество, а потому что сама личность Христа является Богочеловеческой. Связь между образом и первообразом возникает в восприятии человека, и именно это делает возможным поклон перед образом адресовать тому, кто на нем изображен: «ибо сколь часто они чрез изображение на иконах видимы бывают, столько и взирающие на образы побуждаются воспоминать и любить первообразных им».
Тем не менее, слова Михаила Травла свидетельствуют о том, что догмат недостаточно усвоился массовым сознанием, которое увидело в нем только возвращение икон, но не учение о надлежащем отношении к ним. Описанные императором действия выражают не иконопочитание в понимании Собора, а именно рецидивы языческого идолопоклонства. В язычестве, в отличие от христианства, связь между изображением и соотносимым с ним божеством выглядит так: предмет-носитель изображения отождествляется с самим богом, наделяется его свойствами и служит инструментом магического на него воздействия.
В русском и других славянских языках ситуация осложняется еще и тем, что термины «латриа» и «проскинезис», противопоставленные VII Вселенским собором так же четко, как «природа» и «ипостась» Халкидонским, могут в равной степени передаваться словом «поклонение», создавая путаницу. Впрочем, проблемы, связанные с практикой иконопочитания связаны не так с отступлениями самих верующих от догмата, как с ошибочным восприятием со стороны. Это касается некоторых протестантских деноминаций, которые, подобно иконоборцам, отрицают украшение иконами мест богослужения и христианских жилищ, молитву и поклоны перед ними, но при этом, как правило, не разделяют иконоборческого мнения о принципиальной неизобразимости Христа.
Таким образом, в жестких спорах и противостояниях, осложненных непростыми отношениями между поместными церквами, личными амбициями участников и постоянными вмешательствами светских властей, на Вселенских соборах 325–787 годов сформировалось догматическое учение о личности Иисуса Христа. Эта личность всегда была центром христианского богословия и практики, поэтому важность правильного понимания роли этой личности и того, что она собой представляет, понятна каждому христианину Как видим, это отнюдь не вопрос о разбивании яиц с тупого или острого конца.
Христиане признают в установлении догматов Божий промысел и действие Святого Духа, говорящего в соборных решениях. Признаваемые выражением богодухновенной истины, догматы, принятые Вселенскими соборами, определили лицо христианской ортодоксии. Догмат является неотменимым учением, его нельзя пересмотреть какое-то время спустя и принять другой, более «прогрессивный». Нельзя также оставаться в лоне церкви и не признавать ее догматов.
В то же время историческое применение догматов сопровождалось рядом ошибок и просчетов, о необходимости соборного преодоления которых все чаще говорится в разных частях конфессионально разобщенного христианского мира. По причине этих ошибок и просчетов некоторые поместные церкви все еще находятся в состоянии раскола.
Однако это не означает безблагодатности, еретичности и погибельности этих церквей. Например, в случае с так называемыми дохалкидонскими церквами имела место не ересь, а трагическая ошибка: передать разницу между «естеством» и «ипостасью» в переводе на коптский или армянский язык оказалось непростой задачей. «Две природы в одной ипостаси» звучало как бессмысленный оксюморон «два в одном» и выглядело попыткой реабилитации несторианства. Мудрости же, проявленной отцами Халкидонского собора при формулировке догмата о двух природах во Христе (диофизитство), не хватило для его последовательного применения. Ярлык осужденного «монофизитства» прилепился к тем негрекоязычным христианам, которые не могли понять из путаных греческих объяснений, в чем состоит суть догмата. Схизма оказалась масштабной: церкви, отпавшие по причине обвинения в монофизитстве, составляют целое семейство: Армянская Апостольская, Коптская, Сирийская, Маланкарская церковь Индии, Эфиопская, Эритрейская. Они находятся в евхаристическом общении и считают себя Вселенской церковью, наследниками древней ортодоксии [6] , отвергнутой, по их мнению, на Халкидонском соборе. Сейчас ведется активный богословский диалог, направленный на восстановление евхаристического общения, однако тысячелетнюю разобщенность преодолеть нелегко.
Апостол Павел в своих посланиях употребляет слово мистерион – по-русски «тайна» или «таинство»: «…тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его… которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол 1:26–27). Именно этим словом обозначается то, что принято называть церковными таинствами.