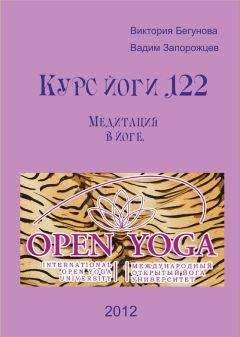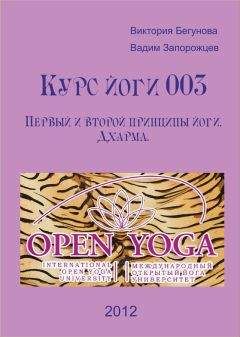В течение последующих двадцати с небольшим лет формируется самостоятельная социорелигиозная среда – российская буддийская община. Ее организации, традиционные и конвертитские, развивают религиозную активность в публичном пространстве российского общества. Они вполне могут быть обозначены как религиозные независимые гражданские организации (РНГО), стремящиеся внести свою посильную лепту в развертку различных тем российского социума. В своем нынешнем состоянии эта буддийская среда пришла к отчетливому пониманию себя как единой и непротиворечивой, на что ей потребовалось более двадцати лет. В течение этого периода заново и со значительными инновациями развернулись буддийские организации на исторически буддийских территориях России. Параллельно с этим рутинизировались практики и формы организации буддистов-конвертитов.
На начальном этапе процесса реинституционализации проблема была не только в том, что буддизм на исторических территориях претерпел периоды затяжных гонений и лишений. Российский буддизм потерял своих выдающихся учителей, утратил созданные прежде образовательные центры, его монастыри пребывали в разрухе и хаосе. Кроме того, он подвергся значительной этнизации. Именно поэтому иноэтнические конвертиты не воспринимались всерьез духовенством в Бурятии, Калмыкии и Туве. Никто не был готов рассматривать их как равноценных единоверцев. Не слишком серьезно относились к буддийским конвертитским общинам и власти, приравнивая их к своеобразным клубам по интересам. Определенную опасность в деятельности таких НГО усматривали и некоторые деятели Русской православной церкви[3]. Меж тем, буддисты-конвертиты не были абсолютно новым явлением. В историко-культурной ретроспективе самым ярким опытом конвертации россиян в буддизм выступает феномен общины Б. Д. Дандарона.
В советский период, в конце 1960-х – начале 1970-х годов, открыто заявила о себе община буддийского учителя Б. Д. Дандарона (1914–1974). В ее состав наряду с бурятами вошли русские, белорусы, эстонцы, евреи, латыши и литовцы. Деятельность этого конвертитского сообщества не противоречила формальному правовому обеспечению свободы совести, существовавшему в советской Конституции. Однако власти готовы были мириться с открытым позиционированием буддийской идентичности только со стороны тех граждан, которые по этническому происхождению являлись бурятами, калмыками или тувинцами. Представители прочих этносов, пытавшиеся объявить себя буддистами, воспринимались властями как потенциально опасный подрывной элемент. В 1972 г. община Дандарона[4] была разгромлена. Против ее основателя было сфабриковано уголовное дело, члены общины подверглись репрессивным воздействиям с применением карательной психиатрии, а эксперты из числа ученых-востоковедов оказались вынуждены надолго позабыть о перспективе должностного роста по месту работы.
Анализ прошедших десятилетий реинституционализации буддизма в России позволяет констатировать, что в те непростые 1990-е годы серьезными препятствиями на пути формирования буддийского сообщества России выступали не только этнизация и ксенофобия, но и идеологически навязанная идея возрождения традиционных религий.
Публично заявленный в 1990-е годы политизированный тезис о необходимости религиозного возрождения народов России обернулся для российского буддизма рядом серьезных проблем. Общественность Бурятии, Калмыкии и Тувы с большим энтузиазмом откликнулась на этот призыв, видимо, полагая, что в новой геополитической реальности должна и может возродиться традиция, существовавшая на исторических буддийских территориях царской России. Никому и в голову не пришло задуматься о самой возможности воспроизведения имперских социокультурных и институциональных образцов в условиях перестройки «от социализма к демократии». Так почему же исторические образцы едва ли возможно институционализировать в контексте демократической матрицы социально-политического существования? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости анализа историко-культурных образцов функционирования буддизма на этнических территориях России. Рассмотрим очень кратко эти моменты.
Бурятия и Калмыкия вошли в состав Российской империи как инородческие территории, население которых не было религиозно однородным. Бок о бок с буддизмом в этих регионах существовали архаические анимистические культы. Функционирование буддийских институтов регламентировалось имперским политико-правовым укладом: народы, исповедовавшие буддизм, квалифицировались самодержавной политической властью как подданные империи – инородцы буддийского вероисповедания, а приверженцы анимистических культов – как язычники. Русская православная церковь рассматривала инородцев-язычников в качестве своего миссионерского поля, хотя насильственная христианизация не практиковалась.
Буряты и калмыки впервые столкнулись с проблемой необходимости осмысления идеологических оснований национальной консолидации и этнической идентичности, когда вошли в состав Российской империи. И это можно сравнить с аналогичной проблемой самоидентификации диаспорных анклавов в условиях принимаемых обществ. Именно в таких условиях народ, или этнос, впервые вынужден выстраивать свою идентичность через противопоставление «мы-они». Попав в российский социокультурный контекст, буряты и калмыки формировали идеи о собственной идентичности в условиях полиэтнического и мультикулыурного имперского социума.
Именно буддизм давал шанс каждому из этих двух народов исторически закрепить свою национальную специфику, поскольку в Российской империи практиковалось терпимое отношение к иноверцам. Таким образом буддизм был институционализирован на имперских территориях, населенных бурятами и калмыками, как национальная религиозная идеология, а не одна из этнорелигиозных традиций. Как для бурят, так и для калмыков осознание себя народом – политической и этнокультурной общностью – осуществлялось через институционализацию буддийской модели социума.
В период с XVIII до начала XX века в обоих регионах формировались уникальные социокультурные формы функционирования четырех базовых социорелигиозных институтов. В соответствии с буддийской традицией социальная модель воспроизведения буддизма закрепилась в четырех базовых институтах – монашество, миряне, религиозное образование и религиозный реципрок. Важно учитывать, что формирование национальной идентичности, частью которой стала принадлежность к буддийской идеологии, в Бурятии и Калмыкии происходило вне политического или правового патронажа со стороны Тибета. Тибетский вариант буддийской модели общества и политико-правовые основания тибетской теократии играли в этом процессе роль прототипа, но и не более того.
Воспроизведение буддийской модели общества[5] в условиях Российской империи осуществлялось в соответствии с традицией, воспринятой из Тибета. Так, материальное обеспечение монастырей, монахов и послушников принимали на себя буддисты-миряне, проживавшие на территориях, принадлежавших монастырям. В Бурятии и Калмыкии социально-политическая стратификация и иерархия социорелигиозных статусов воспроизводились и функционировали под контролем представителей российской имперской администрации и регламентировались соответствующей документацией. Чиновничеству на местах вменялось в обязанности ограничивать численность монастырей, количество насельников, регулярно инспектировать буддийскую среду мирян и духовенства, собирать сведения о характере религиозных практик. Имперская администрация стояла на страже полной независимости буддийских иерархов Бурятии и Калмыкии от какого-либо влияния со стороны тибетской теократии. Религиозным главой бурятских буддистов являлся Хамбо-лама, а калмыцких – Шаджин-лама.
И тот, и другой проводили собственную религиозную политику, никак не подчиняясь Далай-ламе.
Социально-экономические и идеологические преобразования, пережитые буддийскими регионами в советский период, разрушили традиционный способ материального обеспечения монастырей и духовенства. Монастыри не располагали более какими-либо территориями и могли надеяться лишь на добровольные пожертвования, не связанные напрямую с типом хозяйственной деятельности мирян или локализацией их проживания.
В Туве сложился совершенно иной способ институционализации буддизма, принципиально отличный от Бурятии и Калмыкии. Здесь буддизм стал одной из этнорелигиозных традиций наряду с шаманизмом. Более того, социокультурное оформление тувинского буддизма проходило вне взаимодействия или связей с Россией. Буддизм был внедрен в Туве под непосредственным контролем маньчжурской династии Цин, правившей в Китае в XVII–XX вв. Этим обусловлен тибето-монгольский патронаж буддийских социорелигиозных институтов. Тувинские буддисты долго не имели возможности создать собственного религиозного иерарха и сформировать религиозную иерократию. Причиной тому была долгосрочная политическая зависимость Тувы от Китая и Монголии, пресекавших даже призрачные намеки на возможную автономию этой крохотной территории. Высшие религиозно-идеологические статусные позиции занимали монгольские и тибетские монахи. И, соответственно, в среде тувинских буддистов социорелигиозная иерархия воспроизводилась в усеченном виде.