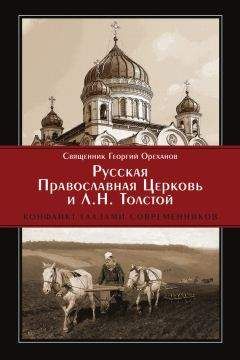По данным МВД, в течение 1905 г. из православия в католичество перешло 170 тыс. чел. (из них 160 тыс. в четырех западных епархиях). Эти цифры подтверждаются данными А. А. Дорской (за период с 1905 по 1 января 1909 г.): всего из православия в другие исповедания перешло 306 163 чел., в том числе 409 чел. перешло в иудаизм, 49 759 – в ислам, 232 686 – в католичество (причем абсолютное большинство переходов было совершено в Царстве Польском и девяти губерниях Западного края), 12 030 – в лютеранство, 4320 – в старообрядчество[132]. Таким образом, можно констатировать, что никаких массовых переходов из православия в другие конфессии и религии, в частности в католицизм, не последовало. Очевидно, что в подавляющем большинстве этих случаев речь идет не о переходах потомственных православных, а о формальном возвращении в фактически исповедуемую религию[133].
Что касается старообрядцев, то их общая численность, по официальным данным, к 1 января 1912 г. составила 2206 тыс. чел. (менее 1,5 % населения России). Таким образом, число «присоединившихся» составило чуть более 1 %, это значит, что к началу XX в. старообрядчество свою притягательность потеряло. Более того, число переходов из старообрядчества в православие стабильно превышало число переходов из православия в старообрядчество.
Как обстояла ситуация с переходами к сектантам? По данным МВД, за период с 1905 по 1911 г. по всей России перешло к сектантам 48 067 чел., в том числе из православия 39 029 чел. Для людей, находившихся в «религиозном поиске», большая часть переходов связана была не с «крестьянско-мистическими», а с рационалистическими сектами западного происхождения, это в первую очередь баптисты, появившиеся на юге России в 60-е гг. XIX в. под именем «штунды»: за 1905–1911 гг. к ним перешло всего 26 094 чел. (21 120 от православия). За ними следовали евангельские христиане (евангелисты, иногда пашковцы) – 9818 чел. (9175 от православия). И в том и в другом случае динамика переходов шла по нарастанию. Интересно отметить, что в указанный период ни один человек не перешел к «Свидетелям Иеговы». В целом наиболее динамично в этот период росли три западные секты: баптисты, евангелисты и адвентисты.
В итоге, по данным МВД, на 1 января 1912 г. в России насчитывалось 393 565 членов различных религиозных сект (0,25 % всего населения страны). Всего этих сект было известно более 30, из них 18 с численностью более тысячи. Интересно, что наиболее крупной была все-таки традиционная русская секта, это молокане-воскресники – 133 395 чел. на 1 января 1912 г.[134] Таким образом, при очевидной необходимости учитывать роль сект в жизни России, в первую очередь в жизни русского крестьянства, эта роль не должна быть ни в коей степени переоценена.
После 1908 г., по данным С. Л. Фирсова, религиозная жизнь в России стабилизировалась: с 1909 г. количество присоединившихся к православию постоянно превышает количество отпавших, причем присутствует и положительная динамика – разница между этими двумя цифрами также постоянно возрастает (2513 чел. в 1911 г. и 8328 в 1914 г.). Общее число православных и единоверцев в 1907 г. составляло 91 704 580 чел., а в 1914 уже 98 363 874 чел., т. е. за восемь лет выросло без малого на 7 млн чел.[135]
Таким образом, рассматривая вопрос о веротерпимости в России в конце XIX – начале XX в., можно согласиться с выводами современных исследований: Православная Церковь не имела серьезных оснований опасаться расширения веротерпимости в стране, а для неправославных христианских конфессий указ 17 апреля был не менее проблематичен, чем для православия.
Однако совершенно очевидно, что достаточно низкий процент переходов из православия в другие исповедания был связан не столько с верностью «вере отцов», сколько с общим религиозным индифферентизмом, равнодушием вообще к религиозным вопросам.
В этой ситуации особенно актуальным становится вопрос об отношении к антигосударственной и антицерковной деятельности Л. Н. Толстого правительственных органов. В первую очередь здесь важна фигура К. П. Победоносцева. Более подробно оппозиция «Л. Н. Толстой – К. П. Победоносцев» будет рассмотрена в последней главе данной работы, сейчас следует сделать только несколько замечаний общего характера.
Многие современники К. П. Победоносцева, а также часто и авторы современных научных исследований без достаточных оснований делают его ответственным за формирование вероисповедной политики русского государства последней четверти XIX в. Очень часто на К. П. Победоносцева возлагается исключительная ответственность за все «государственные» грехи, в том числе за отлучение Л. Н. Толстого от Церкви и за срыв созыва Поместного Собора Русской Православной Церкви в начале XX в.[136] Обсуждение проблем, подобных последней, выходит за рамки данной монографии. Однако следует заметить, что взгляд обер-прокурора Св. Синода на вероисповедную политику русского государства имеет свою специфику, которую невозможно не учитывать при исследовании вопроса о значении проповеди Л. Н. Толстого для России конца XIX – начала XX в.
К. П. Победоносцеву был глубоко чужд абстрактный взгляд на проблему веротерпимости и свободы совести, оторванный от реальных историко-культурных корней. Не веротерпимость вообще, пригодная для всякого человека, гражданина Германии, Англии, России или Соединенных Штатов Америки, а конкретная государственная политика, основанная на социокультурных реалиях, – вот его установка. В российских условиях, в государстве, занимающем огромную территорию и включающем в себя в качестве граждан сторонников самых разных конфессий, эта политика должна заключаться в тесной связи самодержавного государства и Церкви, в активной государственной поддержке церковной жизни, поддержке, которая должна носить характер преемства, в подчеркивании особой, уникальной роли Церкви в российской истории.
В реалиях российской жизни без государственной поддержки свобода совести, был убежден обер-прокурор Св. Синода, превратится в свободу абсолютного произвола и даже насилия над личностью, так как русская политическая и церковная история не выработала эффективных моделей, механизмов и способов ограничения такого произвола. Фактически К. П. Победоносцев утверждал, что если свобода убеждений человека, религиозная жизнь его духа не могут быть никем ограничены, то свобода внешних проявлений этой жизни (в первую очередь прозелитизм, а также богослужебная жизнь, которая часто для сектантских групп становится в России способом саморекламы и, следовательно, того же прозелитизма) должна быть ограничиваема государственными институтами[137].
В России, был убежден К. П. Победоносцев, в отличие от европейских государств и Соединенных Штатов Америки, имеющих многовековые традиции демократизма и либерализма, так называемое законодательное закрепление свободы совести будет фактически обесценено административным произволом на местах и приведет к хаосу: существующие в законе правовые нормы только создадут иллюзию благополучия. Для обер-прокурора Св. Синода свобода веры была не предметом политических спекуляций, а вопросом высочайшего мировоззренческого статуса: он видел и понимал, что очень часто в условиях русской политической жизни сторонниками вероисповедных свобод были люди, не верившие ни во что и преследовавшие свои собственные цели. Именно поэтому К. П. Победоносцев выступил противником обсуждения вопроса о свободе совести в 1905 г. Итогом этого обсуждения, как известно, и стал манифест 17 апреля 1905 г., провозглашавший законодательно основы веротерпимости в России[138].
Исходя из убежденности в принципиальной невозможности отделения Церкви от государства в России, обер-прокурор Св. Синода именно на этой аргументации основывал последовательную, но далеко не всегда убедительную апологию существовавшей в России системы церковно-государственных отношений. Именно поэтому К. П. Победоносцев до конца жизни скептически относился к идее восстановления патриаршего церковного управления, так как полагал, что эта реформа нанесет неисправимый вред не только этой системе в целом, но и самому русскому государству, фактически приведет к разрушению русского государственного строя. Не будем сейчас обсуждать вопрос о том, насколько он был прав в этом, заметим, что такая позиция не нашла поддержки у большинства его современников, в том числе и выдающихся церковных деятелей, стремившихся к обновлению церковной жизни. Однако важно, что взгляды обер-прокурора неизменно, до начала XX в., находили поддержку у императоров Александра III и Николая II.
Такая точка зрения была глубоко чужда Л. Н. Толстому. Все его произведения, связанные в той или иной степени с вероисповедной проблематикой и исполненные обличительного пафоса, пронизывает идея несоответствия существующей в России системы государственного контроля над вероисповедной свободой самым глубоким потребностям человеческого духа. Нужно учитывать при этом, что данный тезис должен рассматриваться в контексте общего взгляда писателя на государство и его институты как абсолютное зло, которое подлежит «мирному» разрушению. Л. Н. Толстой совершенно серьезно полагал, что люди, «исповедующие истинную христианскую религию, зная, что они дошли до известной степени ясности и высоты религиозного сознания только благодаря непрестанному движению человечества от мрака к свету, не могут не быть веротерпимы», потому что, встречая на своем пути несогласные со своими верования, они «не только не осуждают и не отбрасывают их, но радостно приветствуют, изучают» и т. д. (ПСС. Т. 34. С. 293).