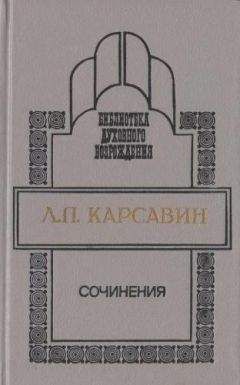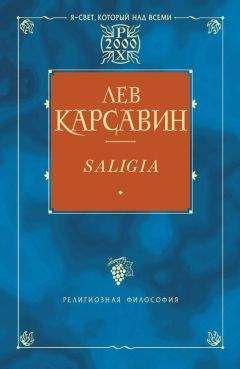В Иисусе, как в центре, происходит разделение соответствующих трем частям Сыновства элементов: духовного (пневматического), душевного (психического) и материального, и освобождение Божественного из плена. В этом и смысл страданий человека Иисуса. В смерти Его телесная Его природа возвратилась в первичную безобразность, душа (психическое) отошла в седмерицу, дух (пневматическое) — в восьмерицу, а само Третье Сыновство вознеслось к Не–Сущему. И ясно, что верующий во Христа страдающего далек от истинного ведения и раб сотворивших материю низших сил космоса. Достичь освобождения можно только отвергая Распятие и тем познавая план Бога Несотворенного. Познавшие же, гностики, свободны от низших сил, от ангелов–творцов материального мира, невидимы для них и непостижимы. В Иисусе они чтут истинного Христа, который посмеялся над распинавшими Его.
Христос — «начаток разделения». Вслед за ним воссоединяется с He–Сущим все Третье Сыновство и наступает полное разделение элементов, полная отъединенность мира от Бога. Таков последний момент развития — всеобщее восстановление (anokatastasis topanton), «восстановление всего, заложенного в панспермии сообразно природе своей и подлежащего восстанию в свое время каждое». Но выделение Третьего Сыновства отнимает у мира смысл его существования и движущее развитием его начало. По окончании «разделения» мир должен остановиться в своем движении и достичь уравновешенности. Стремление к высшему должно исчезнуть, ибо вызывалось оно некоторым знанием о Не–Сущем, которого по разделении уже нет. Поэтому даже отъединенное от Бога бытие страдать не будет, погруженное в «великое неведение» (he megale agnotia), в чем и находит себе оправдание создавшее мир воление Божье. — «Я готов, говорит Василид, утверждать все, только не то, что Провидение жестокосердо». Великий Архонт не будет знать о Не–Сущем, т. е. не будет стремиться к Нему; Второй Архонт не будет знать о великом; все остановится и успокоится в своих пределах.
Из сказанного ясна этическая система Василида. Она, построенная на жгучем чувстве греховности и относительности, идет навстречу всем жаждущим слиться с Божеством и ощутившим свое Богосыновство. Она обещает им грядущее воссоединение с Богом, указуя на их Божественность. Как бы долог и тяжел ни был заключающийся в освобождении от тварного путь — Василид учил о переселении душ — цель в конце концов достигнута будет и обетование обмануть не может. Страдающий мир осмысляется пониманием его как пути к Божеству. И вполне естественно, что ученик Василида Карпократ признавал для души необходимым пройти весь путь земного очищения, т. е. выполнить все, испытать все чувства и страсти, искупая их по неумолимому закону справедливости. Но тогда и Христос теряет свое исключительное значение, сопоставляемый с Петром, Павлом, Пифагором, Платоном, Аристотелем. Как бы то ни было, система самого Василида, несмотря на суровый ее аскетизм, глубоко оптимистична, а совершившееся в Иисусе откровение тайны Божества и начало разделения вносят в нее радость и свет. Однако — только для «сынов», к которым обращена проповедь Василида. Вне сыновства у мира нет ни цели ни смысла, и все материальное, душевное и даже духовное чуждо гностикам. Впрочем, по мнению Василида, это не значит, что мир враждебен Богу и в себе самом — зло. Посвоему и относительно, все мировое целое — прекрасно и благо, а то, что нарушает порядок, временно, искупаемое стихийным развитием мира, как искупается грех и несовершенство в скорбном пути переселений и чрез них восхождении к НеСущему. И вполне в духе учителя Карпократ указывает на условность наших понятий о добре и зле, настаивая на различии их лишь по степени, а сын его Епифаний превращает это указание в основу протеста против условностей, нарушающих мировой закон.
V
Система Василида развивалась и осложнялась в среде его учеников, и нелегко выделить ее из противоречивых, частью совершенно несовместимых друг с другом изложений ее — выше дано наиболее вероятное, на мой взгляд, ее истолкование. Но противоречиво не только изложение системы — противоречива она сама, сочетая гениальные прозрения с наивными мифологемами, могучую отвлеченную мысль с бессильною фантазией. Мне кажется, что в ней можно, а для оценки ее необходимо выделить некоторые основные мотивы.
Выше в достаточной мере указано на значение понимания Василидом абсолютного, которое превышает всякие различия, даже различие себя и иного (ведь оно и абсолютно отрешенное и первоначало). Как абсолютное, оно ничего не допускает вне себя. И если само Оно — Не–Сущее в смысле возвышенности над существованием, вне его — не сущее в смысле абсолютного ничто. Отсюда следует, что все сущее есть Оно, а кроме Него нет ничего и мир — несущее, сотворенное из не–сущего. Все реальное, действительное — само Божество. Если так, то мир раскрытие или развитие Бога, как учили и Симон Волхв и офиты. Этого Василид допустить не может, потому что ему очевидно совершенство Абсолютного, не допускающее изменения, страдания, неполноты. Поскольку мир реален — он само Божество, но в реальной изменчивости своей он не может быть ни Богом, ни излиянием (эманацией) Бога. Как иное, он — ничто, не–сущее и создан из не–сущего истиным Не–Сущим. Христианская Идея творения из ничего оказывается выводом из идеи Абсолютного. В этом второе достижение мысли Василида, возвышающее его над современной, а частью и последующей философией, даже над Платоном.
Идея творения из ничего, позволяя сохранить абсолютность Божества, вместе с тем заставляет понимать Его, как превосходящее различие или разделение Его на Творца и творение (творение — ничто и потому пантеизма со всеми его последствиями здесь еще нет) и предполагать в нем некоторое двуединство чистого единства и разделенности. Творящее Божество, как противопоставляющее Себя творимому, — неполное Божество, ограниченное противостоянием Своим и творению (ничто) и своей же полноте, но Оно превозмогает свою неполномту и ограниченность, если сверхвременно едино со своей полнотой, отъединившись, сразу же воссоединяется с нею. Так мы с необходимостью приходим к идее рождения и сыновства, ибо ограниченное Божество и отдельно от Не–Сущего и едино с ним, а потому не сотворено, но единосущно Не–Сущему.
До сих пор диалектика Василида прозрачна и убедительна, обнаруживая интереснейшие совпадения с позднейшей христианской философией. Но почему сыновство трехчастно? Первое Сыновство, конечно, должно быть понято в смысле Божества, как творящего, как заключенного в Не–Сущем, принципа творения. Это творец (Сын) в обращенности своей к Первоначалу (Отцу). Напротив, Второе Сыновство является тем же Творцом (Сыном) в обращенности его к миру, действующей, одухотворяющей, творческой силой. Оно единосущно и Первому Сыновству и Не–Сущему, превозмогая отъединенность от Него слиянием с Ним; и непонятно лишь одно: чем оправдать и обосновать его ипостазирование и отличение от Первого. Нужно ли признавать реальными логические различия, раз реальная отличность Творца от Первоначала уже обоснована в применении к Сыновству вообще.
Еще труднее ответить на вопрос: в чем смысл Третьего Сыновства. Заметим, что все трехчастное Сыновство находится в панспермии, но, единосущее Первоначалу, отлично от нее, созданной волею безвольной самого Не–Сущего. Третье Сыновство — Бог в плену у мира; Бог вожделеющий о своем воссоединении. Нельзя ничего возразить против того, что, отъединенное в творящей своей деятельности, Божество страдает и томится и что это страдание, как неполнота ведения и бытия, должно быть реальным. Но, во–первых, это относится ко всему трехчастному Сыновству в целом и не требует ипостазирования отдельности страдания; а, во–вторых, страдает Божество абсолютное только в том случае, если Его страдание сверхвременно восполняется и отъединенность временно не отделена от единства и воссоединенности. Иными словами, отъединенность муки неведения, весь временный процесс для абсолютного Божества не существуют, иллюзия, корень которой не в Боге, а в чем–то другом. Между тем, можно говорить лишь о том, что для Василида сверхвременно Первое Сыновство, в крайнем случае — и Второе, но никак не третье. Для него теогонический процесс временен и смешивается с космогоническим, как в предшествующих (по степени развития) гностических системах. Благодаря этому теряет свой смысл основная интуиция Василида, ниспадающего в сатанинскую глубину офитских умозрений. Он сам разрушает найденную им идею абсолютности Божества, правда, все же понимаемого не как потенциальность, а как всеединство, и вынужден прикрывать философскую наготу своей системы теорией иерархически постепенного умаления Божественности. Здесь подлинный корень идеи трехчастности, восьмерицы, седмериды и всех 365 эонов.
Однако идея абсолютности Божества не исчезает. Она позволяет развивать систему Василида в смысле системы всеединства, заставляет его по крайней мере в идеале — мыслить Божество усовершенным. Она же не допускает пантеистического отождествления панспермии и мира с Божеством, вынуждая к принципиальному различению между теогоническим и космогоническим процессом. Для Не–Сущего Бога мир — ничто, абсолютно в буквальном значении этого слова «не–сущее», Для Бога Творца он — иное, ино–сущное. Поэтому весь космогонический процесс происходит вне Божества, является отображением теогонического индуцирования. И никакими метафорами вроде окрыления, благоухания, «индийского масла» и т. п. пропасти между Богом и миром не заполнить. Да, мир трехчастен, духовен, душевен и материален и во всех своих обнаружениях как–то действителен. В духовности своей он достигает до предела Божественности, замыкает себя, но за предел выйти бессилен. Он тоскует о единении с Богом, но тоскует безнадежно. Равным образом и душевное не может в нем стать духовным, не только — Божественным, материальное — преодолеть свою безобразность. Мир вне Бога и обожиться, стать Богом, не может. В чем же тогда оправдание его неизбывной тоске? Она не более как иллюзия; по существу своему она — тоска отъединенного и разъединенного Божества и в существе над миром лежит пелена великого неведения. Тоскует и томится только Божественное: тварь лишь «состенает». Если так, то истинно тоскующие и есть «Сыны Божьи», гностики; и, как само Божество, гностики вне мира, неведомы и невидимы. Они в оболочке мира и миром не затрагиваются. Отсюда вытекает практическое отвержение мира, крайний аскетизм; но естественно задать вопрос: нужен ли этот аскетизм? Ведь Божество все равно всемирно и жизнь мира никакого отношения к нему не имеет. Не лучше ли предоставить мирское миру в чаянии окончательного и неизбежного «разделения». Если так, то нет ни этики, ни аскетизма. Но тогда непонятно, чем объясняется этический идеал, чем оправдывается этическая борьба и жизнь. И как, с другой стороны, объяснить реальное несовершенство Божества, Его страдания, Его тоску и временность. И еще.