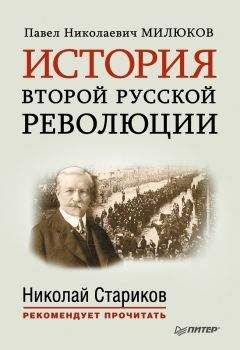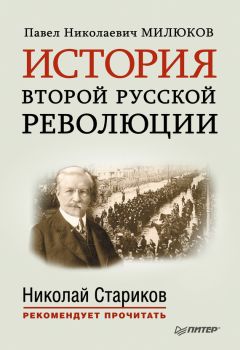История этого возвращения, впрочем, началась много раньше 1901 года. Так, вспоминая этапы богоискательского движения, Д. С. Мережковский начинал со встреч на квартире В. В. Розанова, куда приходили совершенно разные люди – от сотрудников консервативных изданий («Московских ведомостей» и «Гражданина») до анархистов-декадентов. Между этими сторонами, писал Мережковский, завязывались апокалиптические беседы, а у некоторых участников даже появилась мысль сделать их общественными[192].
Стремление обсудить важные вопросы бытия как вопросы религиозные, причем обсудить совместно с представителями Церкви, можно считать естественным результатом таких встреч конца 1890-х – начала 1900-х годов. Однако организационное оформление собраний было делом исключительно непростым. Историю этого процесса оставила в своих записях супруга Мережковского З. Н. Гиппиус.
Еще до 1901 г. на их квартире происходили встречи богоискателей, своеобразные «религиозные собрания». Предполагалось их продолжить и осенью 1901 г. Но эти встречи не имели ярко очерченной цели. Стремясь ее найти и перевести в практическую, «жизненную», плоскость умозрительные рассуждения, Гиппиус предложила мужу «начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, пошире, и чтобы оно было в условиях жизни, чтоб были деньги, чиновники и дамы, явное, – и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходятся»[193]. Мережковский с радостью согласился, и вскоре начались хлопоты об официальном разрешении общества. Уже тогда рядом с четой Мережковских были единомышленники – чиновник Святейшего Синода В. А. Тернавцев, мыслитель В. В. Розанов, публицист B. C. Миролюбов и другие.
Осенью 1901 г. мысль о создании открытого, официального общества «людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры» приобрела четкие формы. 8 октября 1901 г. члены-учредители общества Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, В. В. Розанов, B. C. Миролюбов и В. А. Тернавцев были приняты обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым. А вечером того же дня группа учредителей встретилась со столичным митрополитом Антонием. На этой встрече, кроме названных лиц, были и представители художественного журнала «Мир искусства», весьма популярного в начале XX столетия, – Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, а также поэт Н. М. Минский.
Много лет спустя, вспоминая образование Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге, А. Н. Бенуа писал о том времени как о поре, «когда в православном духовенстве стало намечаться стремление к известному обновлению и к освобождению от гнетущего верноподданничества и от притупляющей формалистики»[194]. По его словам, аудиенция у столичного митрополита была испрошена через служившего в Святейшем Синоде В. А. Тернавцева (1866–1940), в дальнейшем, с 1907 г., занимавшего должность чиновника особых поручений при обер-прокуроре. Разношерстную компанию приняли в Александро-Невской Лавре с видимым любопытством. Митрополит благосклонно выслушал «вожделения и надежды» богоискателей, в том числе и надежду на то, что пастыри не откажутся принять участие в планируемых собеседованиях. О том, какая роль отводилась этим собеседованиям можно судить хотя бы по тому, что на аудиенции у владыки присутствовали не только православные, но, например, и католик Бенуа. Доброжелательный прием, видимо, не мог бы состояться без поддержки В. М. Скворцова, чиновника особых поручений, состоявшего при обер-прокуроре Святейшего Синода. З. Н. Гиппиус подчеркивала, что все было устроено с его «немалой помощью»: имевший в качестве миссионера репутацию гонителя сектантов и старообрядцев, Скворцов жаждал оправдаться перед интеллигентскими кругами, почему и был чрезвычайно активен в деле «сближения Церкви с интеллигенцией»[195]. Начатое богоискателями дело вызвало настоящую сенсацию в русском образованном обществе и естественно способствовало появлению у интеллигенции интереса к проблемам церковного мира, до этого практически ей неизвестного. Со своей стороны, власти разрешали собрания в надежде на «обращение» интеллигенции, то есть с миссионерскими целями. «Интеллигенты же ожидали от Церкви нового действия, ожидали новых откровений, еще нового завета»[196].
Разрешение на открытие было получено в ноябре – «собственно, полуразрешенье, попустительство обер-прокурора, молчаливое обещание терпеть совещания „пока что“»[197]. Благосклонное «попустительство» ведомства сразу же заметили в столичной епархии: митрополит Антоний благословил ректора Петербургской духовной академии молодого епископа Сергия (Страгородского; будущего Святейшего патриарха Московского и всея Руси) исполнять обязанности председателя Религиозно-философских собраний. Вице-председателем стал архимандрит Сергий (Тихомиров) – ректор столичной семинарии. Митрополит разрешил принимать участие в собраниях как черному (монашескому), так и белому духовенству, профессорам и преподавателям духовных школ, и даже студентам (по выбору академического начальства).
Духовенство впервые могло вести диалог с теми, кого традиционно в церковной среде почитали атеистами. Понятно, что об их духовных запросах имелось лишь самое общее представление. Первое собрание открылось 29 ноября 1901 г. в помещении Императорского географического общества, располагавшегося в доме Министерства народного просвещения. Как вспоминал А. Н. Бенуа, для собраний отвели большую узкую комнату, во всю длину занятую столом. «По стенам висели картины, а в углу на мольберте чернела большая квадратная доска – вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за этим „залом заседаний“ служила буфетом, где можно было получить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен мнений в менее официальном тоне»[198].
С первых же заседаний собрания стали модными, их посещали самые разные по своему положению и влиянию люди: священники и профессора духовных школ, публицисты правых изданий и государственные служащие, генералы и случайные гости. Так, среди участников религиозно-философских собраний были журналист М. О. Меньшиков, генерал А. А. Киреев, протопресвитер придворного духовенства И. Л. Янышев, профессор духовной академии А. И. Бриллиантов, князь С. М. Волконский и многие другие. Всего состоялось двадцать заседаний, на которых рассматривались шесть основных тем: об отношении Церкви к интеллигенции (заседания I–II), о Льве Толстом и его отношениях с Русской Церковью (заседания III–IV), о свободе совести (заседания VII–IX), о духе и плоти (заседания X–XI), о браке (заседания XII–XVI) и о догматическом развитии (заседания XVIII–XX).
Уже одно перечисление тем заставляет признать, что Религиозно-философские собрания поставили на обсуждение многие принципиальные вопросы российской жизни – от церковно-государственных отношений до сугубо церковных проблем. В условиях победоносцевского контроля над церковной жизнью, когда всевозможные усилия обер-прокурора (созывы архиерейских соборов для решения наиболее важных, по мнению светской власти, церковных дел, попытки развития проповеди, внебогослужебных собеседований и др.) «показали, что разбудить активность Церкви, находящейся под государственной опекой, практически невозможно», и что «единственным путем для этого было развитие начал самоуправления, самостоятельности в Церкви, связь ее с обществом»[199]. Религиозно-философские собрания стали постепенно восприниматься многими их участниками как своеобразные Предсоборные совещания: преддверие «то ли большого церковного, то ли земского Собора („богочеловеческого собора всеединства“)»[200].
Разумеется, такой разворот событий не мог удовлетворять Победоносцева, который, чем дальше, тем подозрительнее смотрел на происходившие встречи. Ведь самим фактом своего существования собрания показывали неразрешенность многих принципиальных вопросов церковной жизни, верховным распорядителем которой более двадцати лет сам обер-прокурор и являлся. Поразительно, что собрания не были им закрыты сразу после того, как прозвучали первые доклады, и «терпелись» до 1903 г. Это выглядит более удивительным, чем факт их разрешения.
Кроме того, на встречах постоянно звучали и столь нелюбимые К. П. Победоносцевым мотивы Апокалипсиса, а мистические настроения были весьма распространены среди участников. Показательный пример – рассказ А. Н. Бенуа о том, как в зале заседаний, за черной классной доской в углу выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Решив посмотреть, что это за торчки, Бенуа был сражен: оказалось, что выглядывали действительно рога непонятного идола, привезенного когда-то экспедицией Географического общества. – «Из оскаленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали длинные рога. ‹…› Чудовищное безобразие этого дьявола, – вспоминал Бенуа, – было передано прямо-таки с гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то притаившегося наблюдателя – показалось мне до жути уместным»[201]. И хотя идол символизировал для Бенуа в то время постепенное удаление от главной задачи собраний – поисков истины и погружение в софистику, сама реакция на «дьявола», «присутствовавшего» в зале заседаний – весьма характерна.