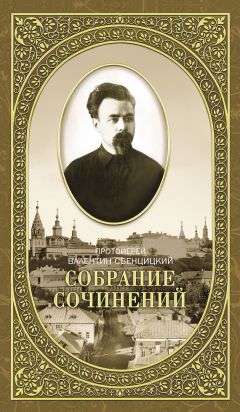А сколько жгучей тоски об этом святом граде вложено в любви русской женщины. С восторгом и надеждой прислушивается она к первым, непонятным звукам зовущего куда-то голоса. Доверчиво, с трепетной, святой радостью, она вступает в свой град. И ей начинает казаться, что открывается новый, святой великий мир. Чем ближе кажется счастье, тем мучительней, до нетерпимой тоски, разгорается жажда скорей вместить его в свою душу. Но кто виною, что почти каждая из них своё сердце, свой град святой принимая за того, кого любит, находит вместо него циничную грязь, грубую, физическую необходимость, пустоту пошлой повседневности и, в лучшем случае, сладкий мираж, который улетает безвозвратно и неизбежно. Любовь русской женщины всегда в самой сущности своей оскорблённая любовь. Не потому ли любовь её так бесконечно близка к страданию?
Отравилась никому неизвестная, никому ненужная девушка, всеми брошенная, всеми презираемая… Может быть, и об этом говорить неприлично, как неприлично расплакаться на балу? Пусть так. Те, у кого такая же святая, такая же несчастная душа, как у неё, поймут.
Она спустилась до самого дна грязи, упрямо-сосредоточенно ища и в разврате неведомого Бога. Это юродство. Это абсурд, понятный лишь нам, русским. Проститутка, пьяная, униженная, хуже всякой собаки, она испытующе, со скорбным недоумением, всматривалась в глаза приходивших к ней мужчин. Отдавая тело своё на позор, душу свою на распятие, она, ценой нечеловеческих мук, хотела купить себе веру в Бога и жизнь… Она ждала. Она искала в вине, в грязи, в унижении своём святого, незримого града.
И он почудился ей. Почудился ей в любви. Она готова была вложить в своё чувство всю надежду свою, всю нестерпимую боль, всю неизведанную радость. Быть с ним, служить ему, душу свою отдать за него, выстрадать ему его счастье – это был первый, неясный гул, донёсшийся до неё из таинственного, так мучительно желанного града… Она погибла, потому что он не понял. И на душе его навсегда осталась ссадина её тоски.
В последний вечер она пришла, как всегда, поговорить.
– Послушайте, – сказала она, – ну, а если я не могу жизнь переменить, тогда что? Знаю, что в грехе вся, чувствую позор свой, а исправиться не могу. Что ж, жить всё-таки? Грешить, но жить?
– Я не верю в такой случай, – ответил он, – кто действительно сознает грех, тот сможет зажить по-новому267.
– Ну, а если?
– Послушайте, это нелепый пример. Поймите вы, почувствовать грех может только тот, кто почувствует любовь к людям. Всякий стыд, всякое раскаяние в основе своей носит любовь. В любви же бесконечный источник сил. Человеку дана свободная возможность в одну тысячную долю секунды из разбойника стать святым. Нужно учиться любить268.
– Это вы мне говорите, учиться любить? Мне? Я-то люблю, – странно засмеявшись, сказала она, – а вот меня-то…
– Разве…
– Не любит, – крикнула она, – когда шла сюда, думала, может быть…
Она ушла не договорив, а через два дня в газетной хронике стояло: «В N-ском переулке отравилась карболкой Н. В. М.».
Святой град не открылся ей при жизни. Да будет воля Твоя.
Видный революционер и захудалая проститутка, что общего между ними?
Общее между ними то же, что и между всеми истинными русскими интеллигентами. Боль их, томительная, безысходная мука о святом граде, неутешный плач и глубоко, стыдливо скрытая от глаз, беспрерывная мольба к неведомому Богу…269
Вот кто те «взыскующие Града», которым мы пишем, которые родные, близкие нам, которые поймут нас и не осудят за то, что мы не всегда будем в силах соблюдать литературные этикеты…
* * *«Хорошо, – скажет нам кто-нибудь, – пишете вы взыскующим Града, но какое вы имеете на то право, сами-то вы разве нашли уж?»
Вопрос очень коварный, почти смертельный. Сказать нет – тогда что за смысл обращений ничего не нашедших к ничего не нашедшим. Сказать да – значит навсегда потерять всякое доверие. В литературе не принято объявлять себя нашедшими истину, традиция требует от всякого роли идущего к истине. Это во-первых; во-вторых, что может быть отвратительнее человека, который, самодовольно ухмыляясь, заявит:
– Гм… а я нашёл…
Но мы ответим так, как действительно думаем.
Да, мы нашли. Мы нашли, потому что мы христиане. Святой Град открылся нам. Он с нами, и никогда уже более мы не уйдём из него искать новый. В этом смысле нам ведомо счастье, радость, покой, которых не знают взыскующие.
Да, мы нашли Град. Но именно потому, что нашли его, нам открылись новые муки. Во-первых, мы увидали во всей бесконечной сложности то, что подлежит в этом Граде нашему познанию, и поняли по-новому муку познания истины270. Во-вторых, мы почувствовали, какая глубочайшая задача стоит перед нашей волей, – и потому мы по-новому поняли муку о праведной жизни271.
Мы нашли святой Град, но вместе с тем мы нашли в нём невидимые нити, связующие ищущих с теми, которые уже нашли, а отсюда открылась нам задача, превосходящая по своей величине и значении задачу «взыскующих Града».
Нашедшие Град не порывают связи с теми, кто лишь идёт к нему, напротив, вне Града нельзя ощущать в такой полноте внутреннее единство272. Таким образом, принимая в душу свою всё неутолённое искание, всю природу, которая «стенает и мучится доныне»273, «нашедшие» через свой покой, через свою христианскую радость познают высочайшую муку жажды святого Града вселенского274. Не самодовольное почивание от дел даёт тот открывшийся святой Град, о котором мы говорим, он призывает к великой, окончательной борьбе за новое небо, за новую землю преображённого космоса275. Зная радость нашедших, переживая всю муку ищущих и видя, как гибнут усталые, измученные люди, всё в душе рвётся навстречу к ним, чтобы приблизить, открыть им святой Град. Но открыть его незнающим значит показать всю истину его для сознания и всю правду его для жизни. Град этот живёт в душе, и потому открыть его значит открыть душу. Этим целям и будет служить наш «Дневник». А потому не смотрите на него как на простую литературную затею и не ставьте нам в упрёк того, что мы в первом выпуске не скажем всего, что можем сказать о святом Граде.
Это задача «Дневника» в целом.
Часто приходится слышать, как одни в частных, интимных разговорах, с большою мукой, а другие в публичных прениях, без всякой муки, ставят резкий вопрос: как примирить идею абсолютного добра с существованием в мире зла? Это вопрос громадный, сложный и трудный. Может быть, напряжения всех духовных сил человека недостаточно, чтобы дать на него ответ, исчерпывающий и удовлетворительный во всех отношениях. Но кое-что всё же можно разъяснить и в немногих словах.
Нужно прежде всего себя спросить: насколько отчётливо я представляю себе то, примирение чего меня затрудняет? Конечно, легко одним движением языка сказать – идея Абсолютного Добра276. Но представляет ли себе обычное сознание хоть сколько-нибудь адекватным образом тот бесконечный смысл, который скрывается за этой идеей? Пережило ли оно, это обычное, среднее сознание, хотя бы стомиллионную часть того содержания, которое необходимо, хотя и отвлечённо, мыслится рассудком и умом даже этого самого же сознания, когда оно думает подойти к идее абсолютного добра со стороны логической? А как понимать зло? Как его чувствовать? Как воспринимать? Это не меньший вопрос. Для верующих ясно, что если бы зрение их было сильно, если бы глаза у них были чисты, то они должны были бы видеть, как от самого малейшего проявления зла (ну хоть от того, например, как налетает бабочка на свечку и сгорает) идут прямые нити к Голгофе и что все страдания мира как-то относятся к единому центру, к единому своему сознанию – к распятому Иисусу Христу. Должны были бы видеть. А разве видят на самом деле? Кто видит, тому и нечего примирять, ибо в Кресте всё примирение277. А кто не видит, пусть спросит себя, какое право имеет он задавать этот вопрос, когда ни того, ни другого, ни абсолютного добра, ни мирового зла, он не знает, потому что не чувствует, потому что слова эти для него – отвлечённая идея, которым нет ничего действительно соответствующего в его душе. Даже странно. Это похоже на то, как если бы в семье пусть добрых, но ограниченных людей, у которых кругозор не идёт дальше внутрисемейных отношений, фактов и жизни за чаем со свежими булками, с мармеладом, с вареньем, вдруг стали бы, в виде сопровождающего пищеварение разговора, высказывать свои сомнения насчёт того, правильно ли и целесообразно ли поступили рабочие 9-го января? Да разве можно с мармеладом во рту, т. е. абсолютно не переживая и не чувствуя всю грандиозность события, говорить о таких вещах? Ведь это же будет сплошная ложь, даже если бы все суждения были умны и по форме правдивы. Ложь, ложь – всякие разговоры, сопровождающие и предваряющие пищеварение, ложь – всякая мысль, в которой логически содержания больше, чем психологически переживается душой. А раз ложь, то и самый вопрос о примирении существования зла с абсолютным добром – тоже ложь. Его имеют право и могут задать только те люди, которые знают и действительно чувствуют и зло, и добро. Но станут ли такие люди его задавать? Кто же больше Христа знал абсолютное добро – Отца, Себя и Духа Святого, и кто же больше Него принял в душу и пережил мировое зло и мировые страдания, а разве Христос задавал и мог задать такой вопрос?..