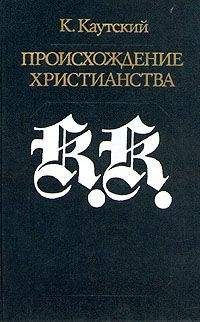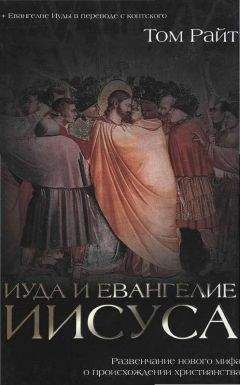Но этот шаг, конечно, не мог быть сделан крестьянами, которые находились в полной зависимости от природы. Они покорно склонялись перед силами природы и старались не покорить их путем познания, а снискать их благоволение путем молитв и жертв. Научное познание природы возможно только в городах, где человек не чувствует так непосредственно и осязательно свою зависимость от природы и где он может стать ее незаинтересованным наблюдателем. Только там возникает господствующий класс, который имел достаточный досуг для наблюдений и не поддавался соблазну тратить этот досуг на физические наслаждения, как это делал крупный землевладелец в деревне, где физическая сила и выносливость играют такую роль в производстве и где досуг и избыток производят только такие грубо чувственные удовольствия, как охота или пиры.
Естествознание возникло в городах. Но мало-помалу некоторые города разрослись до такой степени, приобрели такие большие размеры, что население их утратило сознание своей зависимости от природы, а вместе с этим и интерес к ней. Но то же самое развитие передало городам руководство духовной и экономической жизнью обширных областей. И оно же, как мы видели, уничтожило ту поддержку, которую отдельный индивидуум находил в традиционных формах общества и мысли. Оно также обостряло все классовые противоположности, разжигало все более ожесточенную классовую борьбу, которая временами заканчивалась полным переворотом во всех унаследованных отношениях. Не природа, а общество готовило теперь каждый день человеку в больших городах все новые неожиданности, ставило его ежедневно пред новыми, неслыханными задачами и изо дня в день задавало ему вопрос: что делать?
Не вопрос о причинности в природе, а вопрос о должном в обществе, не познание необходимых естественных зависимостей, а свободный, по-видимому, выбор новых общественных целей — вот что теперь главным образом интересовало людей. Место естествознания занимает этика, и последняя все более принимает форму поисков счастья, блаженства индивидуума. В эллинском мире этот процесс происходил сейчас же после персидских войн. Римский мир, как мы уже видели, в области искусства и науки являлся только плагиатором греческого мира, так как он овладел материальными и духовными сокровищами Греции не путем труда, а посредством грабежа. Римский мир познакомился с греческой философией в такое время, когда в ней интерес к этическим вопросам преобладал над интересом к познанию природы. Поэтому римская философия очень мало занималась изучением природы и с самого начала посвятила свое главное внимание этике.
В первые столетия императорской эпохи в области философского мышления господствовали две этические системы: эпикуреизм и стоицизм.
Эпикур называл философией деятельность, которая посредством понятий и доказательств создает счастливую жизнь. Этого он думал достигнуть стремлением к наслаждению, но только стремлением к разумному, прочному наслаждению, а не к чувственным мимолетным удовольствиям, которые ведут к потере здоровья и имущества, следовательно, к страданию.
Это была философия, очень подходящая классу эксплуататоров, который не мог найти для своего богатства другого применения, кроме потребления. Разумное регулирование чувственной жизни — вот в чем он нуждался. Но это учение не приносило никакого утешения тем, кто уже потерпел в жизни физическое, духовное или финансовое банкротство, бедным и нуждающимся, пресытившимся всякого рода наслаждениями до отвращения к ним. Оно не могло также удовлетворить тех, которые интересовались еще традиционными общественными формами и преследовали не только политические цели, тех патриотов, которые с бессильной скорбью смотрели на упадок государства и общества, но не могли задержать его. Всем им наслаждения этой жизни казались пустыми и суетными. Они поэтому обратились к стоицизму, который считал высшим благом не наслаждение, а добродетель и только в последней видел счастье. Материальные блага, здоровье, богатство и т. д. были с этой точки зрения так же безразличны, как материальные страдания.
Многих это в конце концов приводило к полному отречению от мира, к презрению к жизни, даже к исканию смерти. Самоубийство в императорском Риме было очень' частым явлением, одно время оно даже вошло в моду. Но замечательное явление: одновременно с исканием смерти в римском обществе развивался настоящий страх смерти. Гражданин какой-нибудь общины в классическом мире сознавал себя частью великого целого, которое переживало его, когда он умирал, и в сравнении с ним было бессмертным. Он продолжал жить в своей общине, она носила на себе следы его деятельности, он не нуждался ни в каком другом бессмертии. И действительно, у народов древности, не имевших за собою продолжительного культурного развития, мы либо совсем не находим никаких представлений о загробной жизни, либо встречаем только представления о царстве теней, вызванные потребностью объяснить появление умерших в сновидениях: жалкая жизнь, от которой очень охотно отказались бы. Известна жалоба тени Ахиллеса:
Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся,
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными, мертвыми, царствовать, мертвый.[33]
Вера в существование теней, как уже мы сказали, была только наивной гипотезой, которая должна была объяснить появление мертвецов в сновидениях, она возникала не из душевной потребности.
Не то было, когда община исчезала и отдельный индивидуум оставался одиноким. У него уже не было сознания, что деятельность его продолжала жить в государстве, к которому он относился индифферентно, а часто и враждебно. И все-таки мысль о полном уничтожении была для него невыносима. Так развился страх смерти, какого в древности не знали. Появилась трусость, смерть стала ужасом, тогда как прежде она была братом сна.
Все сильнее становилась потребность в новом учении, которое бы доказывало, что индивидуум бессмертен не как бесплотная тень, а как блаженное существо. Блаженство перестали искать в земных удовольствиях, но его также не искали уже в земной добродетели, а в достижении лучшей жизни за гробом, для которой земная жизнь была только предуготовлением. Это воззрение встретило сильную опору в учении Платона, его после приняла и стоическая школа.
Платон допускал загробную жизнь в такой форме, что души, отделившиеся от тела, продолжали жить и получали награду и наказание за свои земные поступки. В 13-й главе десятой книги своей «Республики» он рассказывает об одном спартанце, павшем на войне. Когда на двенадцатый день после смерти его хотели предать сожжению, он вдруг ожил и рассказал, что его душа, после того как она вышла из тела, попала в одно чудесное место, где были трещины, которые отчасти вели на небо, а отчасти внутрь земли. Там сидели судьи, чтобы судить прибывшие души: праведные отправлялись направо, на небо, где царствовала неизъяснимая красота, а грешные — налево, в глубь земли, в какую-то подземную пропасть, где они должны были искупить свои грехи. Неисправимые злодеи попадали там в руки диких людей, пышущих огнем, которые схватывали их, заковывали и предавали различным мукам. Для других же, попавших на небо и в подземную пропасть, должна была, спустя тысячу лет, начаться новая жизнь. Памфилий, который все это видел, получил поручение все это рассказать и чудесным образом проснулся живым.
Трудно не вспомнить при этом о небе и аде, об овцах по правую сторону и о козлищах по левую, о вечном огне, уготованном в аду (Мф. 25:33, 41), и о мертвецах, которые не оживут, «доколе не окончится тысяча лет» (Откр. 20:5) и т. д. и т. д. А ведь Платон жил в четвертом столетии до Рождества Христова.
Так же христиански звучат следующие слова:
«Тело есть бремя и наказание для духа. Оно давит на дух и держит его в оковах».
И эти слова принадлежат не христианину, а воспитателю и министру Нерона, гонителя христиан, стоику Сенеке.
Вот и другое аналогичное место:
«Телом этим душа покрывается, закрашивается, заражается и отделяется от всего, что составляет ее истинную сущность. Из-за него она подвержена ошибкам. Вся ее борьба устремлена на эту давящую плоть. Она стремится туда, откуда она была послана. Там ждет ее вечный покой, там она, после всего грубого и извращенного, что она видела в этом мире, созерцает чистое и светлое».
Мы встречаем у Сенеки и другие обороты, знакомые нам из Нового завета. Так, Сенека однажды замечает: «Облекись в дух великого человека». Бруно Бауэр совершенно правильно сравнивает это выражение с тем, которое мы встречаем в Послании апостола Павла к римлянам: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» (13:14) и в Послании к галатам: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (3:27). Из таких совпадений сделан был вывод, что Сенека позаимствовал эти выражения из христианских источников, даже что он был христианином. Но это только продукт христианской фантазии. Сенека писал раньше, чем составлены были различные части Нового завета, — стало быть, если действительно имели место заимствования, то приходится скорее принять, что христиане сделали их из широко распространенных сочинений модного тогда философа. Вполне возможно также, что обе стороны, независимо друг от друга, употребляли обороты, которые были в то время в устах всех.