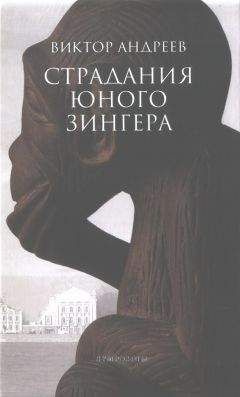Жизнь защищает себя, она ищет у разума слабое место, и, обнаружив его в скептицизме, ухватившись за него, пользуясь слабостью разума, она пытается спастись. Ей необходима слабость ее противника.
Нет ничего несомненного; все подвешено в воздухе. И Ламенте стенает в тоске (Essai sur l'indifference еп mature de religion, III partie, chap. 67): «Неужто слепо, утратив всякую надежду, нам предстоит погрузиться в безмолвные глубины универсального скептицизма? Неужто усомнимся мы в том, что мы мыслим, чувствуем, существуем? этого не позволяет нам наша природа; она заставляет нас верить даже тогда, когда разум наш не убежден. Абсолютная уверенность и абсолютное сомнение для нас одинаково запретны. Мы плывем в тумане меж этих двух берегов, как между бытием и небытием, ведь абсолютный скептицизм был бы угасанием разума и в конце концов - смертью человека. Но человеку не дано истребить себя; в нем есть нечто такое, что упорно сопротивляется уничтожению, я не знаю почему, но даже его собственная воля не может победить живую веру. Хочет он того или нет, но ему необходимо верить, потому что он должен действовать, потому что он должен поддерживать свое существование. Его разум, если бы он прислушивался только к нему одному, научив человека сомневаться во всем и в самом себе тоже, довел бы его до состояния абсолютного бездействия; он умер бы прежде, чем сумел бы доказать самому себе, что он существует».
На самом деле это неверно, что разум приводит нас к абсолютному скептицизму. Вовсе нет! Разум не ведет и не может привести меня к сомнению в том, что он существует; разум ведет меня к жизненному скептицизму, вернее, к жизненному отрицанию; уже не к сомнению, а к отрицанию того, что мое сознание переживет мою смерть. Жизненный скептицизм проистекает из столкновения между разумом и желанием. И из этого столкновения, из этого объятия, в которое заключают друг друга отчаяние и скептицизм, рождается святая, сладчайшая, спасительная неуверенность, наше высшее утешение.
Абсолютная, полная уверенность в том, что смерть является полным, окончательным и необратимым уничтожением личного сознания, уверенность, подобная нашей уверенности в том, что сумма трех углов треугольника равна двум прямым углам, или абсолютная, полная уверенность в том, что наше личное сознание после смерти так или иначе продолжит свое существование, а главное должно будет вступить в то неведомое и совершенно иное дополнение к нашей жизни, которое состоит в вечном вознаграждении или наказании, - обе эти уверенности в равной мере сделали бы нашу жизнь невозможной. Тот, кто думает, что он уверен в том, что смерть навеки прекратит существование его личного сознания, его памяти, наверное и сам не ведает о том, что в самом сокровенном тайнике души у него остается тень, легкая тень тени неуверенности, и в то время как он говорит себе: «Так давай, живи эту короткую жизнь, другой-то ведь не будет! ", молчание этого тайника говорит ему: «Кто знает!..». Он, может быть, и верит в то, что этого не слышит, но все равно он это слышит. И в душе того, кто думает, что еще сохранил веру в будущую жизнь, тоже есть тайный голос, голос неуверенности, который нашептывает его духовному слуху: «Кто знает!..». Голоса эти, наверное, похожи на жужжанье москита, когда ветер ревет в лесу среди деревьев; мы не отдаем себе отчета в этом жужжанье и, тем не менее, вместе с грохотом бури до нас все- таки доносится его звук. В противном случае, без этой неуверенности, как смогли бы мы жить?
Эти «а что если да?» и «а что если нет?» являются основой нашей внутренней жизни. Может быть и нашелся бы такой рационалист, который ни разу не поколебался в своем убеждении в смертности души, и такой виталист, который ни разу не поколебался в своей вере в бессмертие; но это означало бы, самое большее, что так же как существуют уроды, существуют тупицы по части аффектов, или чувств, каким бы великим интеллектом они ни обладали, и тупицы по части интеллекта, как бы ни были велики их добродетели. Но, исключая подобные отклонения от нормы, во всех прочих случаях я не могу верить тем, кто уверяет меня, будто никогда, ни в самом мимолетном озарении, ни в часы величайшего одиночества и горя, на поверхность их сознания не поднимался этот ропот неуверенности. Я
не понимаю людей, которые мне заявляют, что их никогда не волновала перспектива полной смерти и никогда не тревожила перспектива их собственного уничтожения; что же касается меня, то я не хочу заключать мир между моим сердцем и моею головой, между моей верой и моим разумом; скорей я хочу, чтоб они сражались друг с другом.
IX глава Евангелия от Марка повествует о том, как один человек привел к Христу своего сына, одержимого духом немым, который где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет, которого он хотел показать Ему, чтобы Он его вылечил. И Учитель, выведенный из терпения этими людьми, которые не хотели ничего, кроме чудес и знамений, воскликнул: «О род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне» (19), и привели его к Нему; увидев, что он упал на землю, Учитель спросил отца его, как давно это сделалось с ним, тот ответил, что с детства, и Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (23). И тогда отец этого эпилептика, или бесноватого, произнес в ответ краткие и вечные эти слова: «Верую, Господи! помоги моему неверию! " Πιστεύω, Κύπιε, βοήθειб τήάπιστια μου(24).
Верую, Господи! помоги моему неверию! Это может показаться противоречием, ведь если он верит, если надеется, то почему же тогда просит Господа помочь его неверию? Однако ж это противоречие является именно тем, что и придает величайшее человеческое достоинство этому стону, идущему из глубины души отца бесноватого. Вера его является верой, основанной на неуверенности. Он верит, то есть хочет верить, нуждается в исцелении сына, и поэтому просит Господа помочь его неверию, его сомнению в том, что такое исцеление возможно. Такова настоящая человеческая вера; и героическая вера Санчо Пансы в своего хозяина, Рыцаря Дон Кихота Ламанчского, как я попытался показать в моей книге Жизнь Дон Кихота и Санчо, тоже была верой из глубины неуверенности, сомнения. Дело в том, что Санчо Панса был человеком, человеком цельным и истинным, а не каким-то там тупицей, ведь только будучи тупицей мог бы он без тени сомнения верить в безумные идеи своего хозяина. А тот тоже, в свою очередь, не верил в них таким вот образом, ибо тоже, хотя и был безумцем, отнюдь не был тупицей. Он был, в сущности, отчаявшимся человеком, что и хотел я показать в своей вышеупомянутой книге. Он был человеком героического отчаяния, героем глубочайшею и смиренного отчаяния, вот почему он остается вечным образцом всякого человека, чья душа является полем брани между разумом и жаждой бессмертия. Наш сеньор Дон Кихот это образец виталиста, чья вера основывается на неуверенности, а Санчо это образец рационалиста, сомневающегося в своем разуме.
Август Герман Франке{150}, терзаемый мучительными сомнениями, решился умолять Бога, Бога, в которого он уже не верил, или, вернее, думал, что не верит, чтобы Он, если Он все-таки существует, сжалился над ним, несчастным пиетистом Франке . В аналогичном состоянии души я сочинил сонет под названием «Молитва атеиста», который вошел в мои Четки лирических сонетов и заканчивается так:
Своим страданьем обречен платить:
Бог выдуман. Будь Ты реален, Боже,
- тогда б и сам я был реален тоже{151}.
Да, да, если бы Бог, гарант нашего личного бессмертия, существовал, тогда и наше существование было бы вполне реальным. Если же нет, то нет!
Эта страшная тайна, эта сокровенная воля Божия, на которую указывает идея предопределения, та самая идея, что внушила Лютеру его servum arbitrium{152} и придала трагический смысл кальвинизму, это сомнение в своем собственном спасении, есть, в сущности, не что иное, как та самая неуверенность, которая, соединяясь с отчаянием, образует основу веры. Верить, - говорят некоторые, - это значит не рассуждать об этом; доверчиво предаваться в руце Божии, ибо тайны Его промысла неисповедимы. Да, это так, но и не верить - это тоже значит не рассуждать об этом. Эта абсурдная вера, эта вера без тени сомнения, эта вера тупых угольщиков, едина с абсурдным неверием, неверием без тени сомнения, неверием малодушных интеллектуалов, страдающих тупостью чувств, интеллектуалов, которые точно так же не рассуждают об этом.
И чем же, если не этой неуверенностью, сомнением, голосом разума была та бездна, та страшная gouffre{153}, перед которой трепетал Паскаль? Это и было тем, что заставило его объявить свой страшный приговор: il faut s’abitir, надо поглупеть!
Весь янсенизм{154}, эта католическая адаптация кальвинизма, несет на себе ту же самую печать. Этот Пор-Рояль{155}, который обязан своею славой баску, аббату Сен-Сирану{156} - он был баском, так же как Иньиго Лойола и автор этих строк, - всегда нес в глубине своей некий осадок религиозного отчаяния, самоубийства разума. И Иньиго в своем послушании тоже совершил убийство разума{157}.