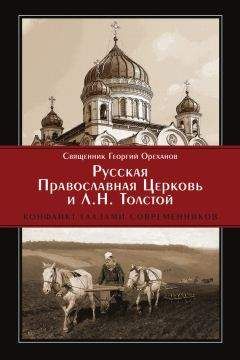В 1875 г. Пашков издает журнал «Русский рабочий», а с 1876 г. начинает свою деятельность упоминавшееся выше «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», за восемь лет существования которого тираж издаваемой литературы достиг нескольких миллионов экземпляров[241]. Названия некоторых брошюр («Что вы думаете о Христе?», «Примирился ли ты с Богом?» и т. д.) красноречиво свидетельствуют о том, что проповедь «пашковщины» носила ярко выраженный протестантский характер маргинального толка. Создавал В. А. Пашков и свои «филиалы», для чего активно использовались его многочисленные имения, разбросанные по всей России, а также приобретались новые земли.
Как уже указывалось, активными помощниками В. А. Пашкова в деле распространения нового учения были представители знатных и старинных русских фамилий, в том числе Модест Модестович Корф (1843–1937), сын известного историка и однокашника А. С. Пушкина М. А. Корфа, граф Алексей Павлович Бобринский (1826–1894), в 18711874 гг. занимавший пост министра путей сообщения и находившийся в дружеских отношениях с Л. Н. Толстым, а также многие другие.
В 1884 г., после проведения съезда российских евангельских христиан, который по замыслу организаторов должен был носить объединительный характер, Пашков был выслан из России вместе с М. М. Корфом без права возвращения. Но остались его последователи и не в последнюю очередь последовательницы, из которых одно из первых мест принадлежит Е. И. Чертковой, женщине, по отзыву последнего секретаря Л. Н. Толстого В. Ф. Булгакова, «самоуверенной» и «крепкой духом».
Таким образом, горячий интерес к проповеди Редстока может служить иллюстрацией религиозных поисков в среде столичной аристократии где угодно, только не в лоне родной Церкви. В рамках данной монографии примечательно то обстоятельство, что знакомство с лордом Редстоком матери В. Г. Черткова в значительной степени способствовало формированию религиозных взглядов последнего. Это важно при анализе отношений Л. Н. Толстого со своим будущим ближайшим учеником в первый период их знакомства, т. е. в первой половине 1880-х гг.
Проповедь «редстокистов» и «пашковцев» и интерес, проявленный к ним, являются яркой характеристикой кризисных явлений русской церковной жизни. Однако анализ понятия «религиозный кризис» будет односторонним и неполным, если не обратить внимания на его литургически-сакраментальную сторону, т. е. не сказать об отношении русского образованного общества к церковным Таинствам. О Таинстве Исповеди и о часто плачевном состоянии богослужения уже было упомянуто выше. Таинство Брака требует совершенно самостоятельного исследования, это одна из принципиальнейших проблем русской жизни[242].
Специально следует подробно остановиться на главном церковном Таинстве – Евхаристии. Своеобразным знаком катастрофы синодальной истории стало появление в 1899 г. последнего крупного романа Л. Н. Толстого – «Воскресение», в котором в подчеркнуто-гротескной форме была высмеяна величайшая святыня христианства – Божественная литургия. Появление 39-й и 40-й глав первой части «Воскресения», с одной стороны, означало, что отношение Л. Н. Толстого (после высылки духоборов и ближайшего помощника писателя В. Г. Черткова) к Русской Православной Церкви принимает агрессивный характер. С другой стороны, для русских читателей, несомненно, это было что-то новое и небывалое. Обсуждению причин появления этих глав посвящен следующий раздел работы.
Евхаристический кризисБлижайшим спутником и одновременно следствием общего религиозного кризиса стал евхаристический кризис, т. е. такое положение, при котором отношение русского образованного общества к Церкви, ее учению и Таинствам определялось не личной верой и пониманием, а абстрактными бюрократическими соображениями. Главное церковное Таинство, установленное Самим Господом на Тайной вечере, Таинство Евхаристии, созидающее Церковь как Тело Христово, воспринимается многими «членами Церкви» как некая тягостная обязанность, осложненная говением и чреватая неприятностями по служебной линии в случае ее игнорирования.
Мы знаем сейчас, что связано это с установкой на лояльность: по замыслу императора Петра I, т. е. по распоряжению государственной, светской власти, говение и участие в Евхаристии первоначально фактически становятся знаком благонадежности. Цель этого распоряжения очевидна – отличить православных от раскольников, которые категорически отказывались в этом Таинстве участвовать. Характерно, однако, что в законодательстве Российской империи всю синодальную эпоху сохранялись статьи, согласно которым всякий православный был обязан хотя бы раз в году причащаться Святых Таин, а гражданским и военным начальникам вменялось в обязанность наблюдать за исполнением этого правила их подчиненными, причем в случае уклонения от них священник или другое лицо должны были сообщать об этом гражданскому же начальству[243]. Таким образом, первоначальная идея Петра I, спорная сама по себе, в XIX в. искажается до противоположности: приобщаются к Святыне и соответствующие справки старательно «выправляют» абсолютно не верующие ни во что лица, обеспокоенные только правильным ходом своего карьерного роста.
Эта мера имела поистине трагическое значение в русской истории XVIII и XIX вв.: по всей видимости, никакое другое распоряжение власти не способствовало не только умалению авторитета Церкви, но и изменению отношения к самому Таинству.
Сейчас можно констатировать, что в XVIII и XIX вв. евхаристический смысл христианской жизни во многом теряется. Складывается парадоксальная ситуация: человек, причащающийся редко, вызывает подозрение. Но человек, желающий причащаться часто, может также быть взят «на подозрение».
В свою очередь, это приводит к упадку духовничества и литургической жизни – для большинства населения России «литургия перестала быть центром церковной жизни», имеет место «вмешательство светской власти в самую интимную сторону религиозной жизни», которое приводит к тому, что «глубочайший акт христианской жизни в сознании очень многих стал пониматься как внешняя гражданская обязанность»; в русских людях «стало меркнуть и сознание того, что такое есть в своем существе Церковь, в чем заключается ее жизнь»[244]. Противостояние Л. Н. Толстого и отца Иоанна Кронштадтского в определенном смысле может быть рассмотрено как противостояние глубоко символическое по своей природе: Л. Н. Толстой в 39-й и 40-й главах первой части романа «Воскресение» создает своеобразный пасквиль – пародию на православное богослужение, в первую очередь на литургию; отец Иоанн, наоборот, является символом важнейшего явления в русской церковной жизни конца XIX – начала XX в. – евхаристического возрождения.
Однако этот пасквиль, которому не сочувствовали даже самые близкие писателю люди, не вызвал какого-либо возмущения в читательской среде (надо, правда, учитывать, что русское бесцензурное полное издание «Воскресения», осуществленное в Англии В. Г. Чертковым, было доступно не всем читателям). Почему? На этот вопрос отвечает в своей веховской статье М. О. Гершензон: интеллигенция создает для себя «некоторое платоническое исповедание», которое практически ни к чему не обязывает, и этот обман узаконивается, чтобы удержать в Церкви хотя бы формально[245]. Об этом же говорит и архиеп. Иоанн (Шаховской), который подчеркивает, что благодаря «греховности и ненормальной степени связи государства и Церкви <…> тысячи безбожников называли себя “православными” и официально числились ими, а офицеры, солдаты, чиновники, учащиеся, брачующиеся, независимо от их веры и желания, насильственно принуждались к часто совсем безверному приятию Св. Христовых Таин «в суд и во осуждение» как себе, так и священникам и епископам, «поведавшим Тайну» Христа врагам Его Истины»[246].
Представляется, что упомянутые главы романа «Воскресение» не могли возникнуть случайно: ведь не случайно сам Л. Н. Толстой подчеркивал неоднократно то обстоятельство, что все его образованные читатели думают так же, как и он, только не рискуют высказывать свои соображения вслух. По отношению к главе 39 такой вывод был бы, конечно, фактически неверным: за описание тюремной литургии Л. Н. Толстого критиковали даже многие его единомышленники и члены его семьи (например, дочь Т. Л. Толстая и ее муж М. С. Сухотин).
Однако симптоматично то обстоятельство, что в начале XX в. литургическая жизнь в России воспринимается, если еще раз воспользоваться удачным выражением Ю. Ф. Самарина, с позиций дряблого скептицизма: 39-я глава первой части романа «Воскресение» может не нравиться, ее могут критиковать, но большинством образованного общества она не воспринимается как национальная трагедия, как символ крушения самых дорогих русскому сердцу идеалов. Личность самого Л. Н. Толстого становится выше и ценнее заветных символов, веры отцов, она сама становится фактически национальным символом, именно поэтому так критично и воспринимается синодальный акт 1901 г. об отпадении писателя от Церкви: русские читатели солидарны с человеком, который сознательно издевается над святыней.