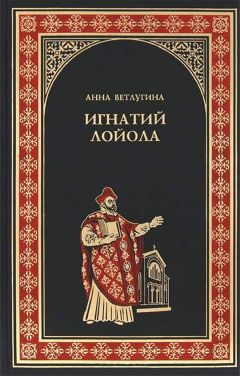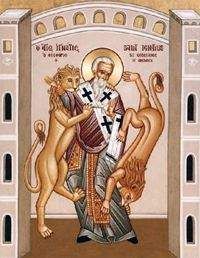15. Так вот: когда он двигался своим путём, ему встретился некий мавр, всадник на муле. Они поехали вдвоём, ведя беседу, и наконец заговорили о Богоматери. Мавр сказал, что ему кажется вполне вероятным, что Дева зачала, не зная мужчины; но в то, что она осталась девственницей, родив ребёнка, он поверить не мог.
Это мнение он обосновывал естественными причинами, приходившими ему на ум. Несмотря на то, что паломник привёл множество доводов, ему не удалось его разубедить.
Тут мавр удалился столь поспешно, что <сразу> скрылся из виду, оставив паломника в размышлениях о том, что у него произошло с этим мавром. При этом <паломник> испытал некие порывы, заронившие в его душу неудовлетворённость (ибо ему стало казаться, что он не исполнил своего долга) и пробудившие в нём негодование на этого мавра. Ему казалось, что он поступил дурно, позволив какому-то мавру говорить такое о Богоматери, и что он обязан был вступиться за Её честь.
Тут на него нашло желание отправиться на поиски этого мавра и угостить его кинжалом за то, что он говорил. Долго продолжалась в нём борьба этих желаний, и в конце концов он застыл в недоумении, не зная, что ему надлежит сделать. Перед тем как удалиться, мавр сказал ему, что направляется в одно место, находившееся немного дальше по той же самой дороге, совсем близко от столбовой дороги (но столбовая дорога через это место не проходила).
16. И вот, устав гадать о том, как ему следует поступить, и не зная, на что же ему решиться, он решился на следующее, scilicet [45]: отпустить поводья и позволить мулице идти до того места, где
Господу нашему угодно было, чтобы мулица выбрала столбовую дорогу, а не дорогу к посёлку (§ 16).
была развилка дорог. Если мулица направится по дороге к посёлку, то ему нужно будет отыскать того мавра и угостить его кинжалом; если же она пойдёт не к посёлку, а по столбовой дороге, то ему придётся оставить его в покое. И вот, когда он сделал так, как задумал, Господу нашему угодно было, чтобы мулица выбрала столбовую дорогу, а не дорогу к посёлку, хотя посёлок этот находился едва ли далее чем в тридцати-сорока шагах, и к нему вела очень широкая и хорошая дорога.
Затем, прибыв в одно большое село перед Монтсерратом [46], он пожелал купить себе одежду, которую решил носить и в которой должен был отправиться в Иерусалим. Тогда он купил ткань, из которой обычно шьют мешки — такую, что соткана не слишком тщательно и потому сильно колется, — а потом распорядился сшить из неё длинное одеяние до пят и, купив посох и тыквенную флягу, приторочил всё это к луке седла <своей> мулицы.
17. Затем он отправился в Монтсеррат, помышляя, как обычно, о тех подвигах, которые ему предстояло совершить ради любим к Богу. Поскольку же голова его была забита Амадисом Галльским и тому подобными книгами [47], ему и пришло на ум нечто подобное.
Шпагу и кинжал повесил в церкви перед престолом Богоматери (§ 17).
Потому он решил бодрствовать над своим оружием всю ночь [48], не присаживаясь и не ложась, но стоя — то на ногах, то на коленях — перед престолом Матери Божией в Монтсеррате. Там он решил оставить свою одежду и облачиться в доспехи Христа.
Затем он покинул это место и поехал дальше, думая, по своему обыкновению, о своих планах. Прибыв в Монтсеррат, он сначала сотворил молитву и уладил дела с духовником [49], а затем совершил генеральную исповедь письменно, и длилась эта исповедь три дня. Он договорился с духовником о том, чтобы тот распорядится забрать мулицу, а шпагу и кинжал повесил в церкви перед престолом Богоматери [50]. Это был первый человек, которому он открыл своё решение, поскольку доселе не открывал его ни одному духовнику.
18. В канун праздника Богородицы в марте двадцать второго
Он так скрытно, как только было возможно, отправился к одному нищему и, сняв с себя всю свою одежду, отдал её нищему, облачившись в желанное ему платье (§ 18).
тогда, ночью, он так скрытно, как только было возможно, отправился к одному нищему и, сняв с себя всю свою одежду, отдал её нищему, облачившись в желанное ему платье. После этого он пошёл, чтобы опуститься на колени перед престолом Богоматери, и провел там всю ночь: то преклонив колени, то стоя на ногах, со своим посохом в руке.
А на рассвете, чтобы никто его не узнал, он удалился и отправился в путь: не прямой дорогой на Барселону, где он повстречал бы многих людей, способных узнать его и оказать ему почёт, но свернув в деревню, которая называется Манреса [51], где он решил провести несколько дней в «госпитале», а также занести кое-что в свою книгу, которую он тщательно хранил и в которой черпал немалое утешение [52].
Но, когда он был уже в одной лиге от Монтсеррата, его догнал какой-то человек, спешивший ему вослед, и спросил его, отдал ли он одежду нищему, как говорил этот нищий. Когда <паломник> ответил «да», слёзы брызнули у него из глаз из-за сострадания к нищему, которому он отдал свои одежды: из-за сострадания, поскольку он понял, что нищего обижали, думая, что эту одежду он украл. Однако, как он ни старался уклониться от почестей, ему недолго удалось пробыть в Манресе так, чтобы люди не заговорили о <его> великих делах, начиная с того, что случилось в Монтсеррате. Впоследствии слухи разрослись и превзошли то, что было в действительности: дескать, он оставил такую большую ренту, и т. п.
Глава III Покаянная жизнь Игнатия в Манресе
19. Покаянная жизнь Игнатия в Манресе. Ему является в воздухе странное видение. — 20–21. Его начинают донимать различные духи. — 22–25. Он переживает настоящую бурю сомнений. — 26–33. К Игнатию возвращается душевный покой; Ног наставляет его; он часто получает Божественные поучения и проявления благосклонности Небес. Сильнейшее озарение. — 34. Игнатий переживает тяжёлую болезнь и смягчает суровость своего покаяния. — 35–37. Он отправляется в Барселону, где готовится к путешествию в Италию.
19. В Манресе он просил милостыню ежедневно. Он не ел мяса, не пил вина, даже если ему их давали. По воскресеньям он не постился, если ему давали чуть-чуть вина, он выпивал его.
Поскольку же <прежде> он с крайнем тщанием холил свои волосы, как было в то время принято, и поддерживал их в порядке, <теперь> он решил махнуть на них рукой, чтобы они росли сами, по своей натуре: не причёсывать их, не стричь, не покрывать ничем — ни днём, ни ночью. По той же самой причине он бросил стричь ногти на ногах и руках, поскольку прежде и об этом тоже заботился.
Когда он находился в этом «госпитале», ему многократно доводилось среди бела дня видеть в воздухе, рядом с собою, нечто, приносившее ему немалое утешение, поскольку это «нечто» было очень, чрезвычайно красиво. Он не разглядел как следует, что это такое, но ему вроде бы казалось, что оно было в облике змеи, со множеством каких-то <блёсток>, сверкавших, словно глаза, хотя это не были глаза. Видя это, он сильно радовался и утешался; и, чем чаще он это видел, тем более возрастало его утешение. Когда же это видение исчезло, он испытал неудовольствие [53].
20. Вплоть до этого времени он постоянно находился почти в одном и том же состоянии духа, испытывая весьма стойкую радость, ничего не ведая о вещах «внутренних», духовных [54].
В те дни, пока являлось это видение, или же незадолго до того, как оно начало являться (ведь продолжалось это много дней), ему в голову пришла одна неотвязная мысль, которая донимала его, выставляя перед ним тяжесть его жизни, как будто кто-то говорил ему в душе: «Ну, и как же ты сможешь выносить эту жизнь те семьдесят лет, что тебе предстоит прожить?» Но на это он отвечал, также «внутренне», с большой силой (ибо чувствовал, что это исходит от Врага): «Эх, ты, ничтожный! Да можешь ли ты пообещать мне хотя бы час жизни?» Так он одолел это искушение и остался спокоен. И это было первое искушение, пришедшее к нему после того, о чём говорилось выше. А случилось оно, когда он входил в церковь [55], в которой каждый день слушал главную Мессу, Вечерни и Повечерия. Все <службы> пелись, и он находил в этом немалое утешение. Обычно он читал на Мессе Страсти, неизменно продолжая оставаться спокойным.
21. Однако вскоре после вышеуказанного искушения в его душе стали происходить резкие перемены, и подчас всё казалось ему настолько пресным, что он не находил вкуса ни в чтении Мессы, ни в её слушании, ни в какой-либо иной совершаемой им молитве. А иногда с ним происходило нечто совершенно противоположное, причём так внезапно, что казалось, будто он скинул <с себя> печаль и отчаяние, как скидывают с плеч плащ. Тогда он стал бояться этих перемен, которых