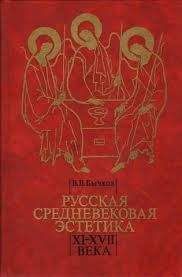Представления об авгажированности (полной зависимости от своего заказчика, в данном случае — церкви) искусства достигают в клерикальных кругах Византии такой силы, что изображенные персонажи часто воспринимаются Николаем в буквальном смысле как «рупоры» богословских идей. В своем описании
он вкладывает в уста многих из них целые тирады, которые представляются ему уместными для данной ситуации. Например, ангел на пустом гробе Христа произносит большую речь о воскресшем (28), а апостол Варфоломей пламенно проповедует Евангелие неприязненно встретившим его армянам (21). «Разговаривают» у него и другие персонажи. К счастью, технические возможности того времени не предоставили возможности озвучить изображения и мастерам пришлось изыскивать художественные приемы и средства для выражения философско-религиозного содержания, а зрителям — активизировать свое восприятие художественного языка живописи. До чего изощрилось это восприятие ярко показывает экфрасис Месарита.
Один из характерных для него приемов восприятия живописи заключается в пристальном всматривании в изображенные фигуры и лица с целью постижения через внешние признаки внутренних состояний персонажей, а также в стремлении передать читателям информацию об изображенных событиях путём описания отражения их в восприятии изображенных персонажей. Так, чтобы выразительнее передать ослепительное сияние, исходившее от Христа на Фаворе, Месарит подробно описывает позы и состояния испуганных Фаворским светом учеников. «Иаков с усилием опирается на колено и поддерживает тяжелую голову левой рукой; в то же время большей частью тела он еще прикован к земле». Правую руку он подносит к глазам наподобие того, как если бы кто-то, пробудившись в полуденный час от глубокого сна на природе, захотел бы взглянуть на солнце и при этом защищает глаза тенью от ладони, чтобы светило не повредило их. Иоанн вообще не желает ничего видеть и лежит как спящий (16). И только подготовив таким косвенным образом читателя, Месарит обращает свой взгляд на причину, приведшую в поверженное состояние учеников: в пространстве парит облако света и «несет в своем центре Иисуса, сверкающего ярче солнца, как некий иной свет, рожденный из света Отца и соединенный, как с облаком, с человеческой природой» (там же).
Описывая «Благовещение», Месарит передает суть изображенного события целой гаммой чувств и переживаний, усмотренных им в образе Марии. Неожиданное появление Гавриила и непонятная весть испугали Марию, сидевшую за рукодельем и направлявшую свои помыслы к Богу. Она стремительно встает с сидения и выпрямляется перед вестником как бы в ожидании царского приказа. Благая весть (она начертана над головой ангела) «достигает ушей Девы, проникает через них в ее мозг, схватывается обитающим в мозгу разумом; ее содержание с пониманием постигается и познание сообщается самому сердцу» (22). Но с осознанием смысла этой вести беспокойство и сомнение охватывают душу Марии. Как она, будучи девой, может зачать и родить? И только заверение о сверхъестественном снисхождении на нее Св. Духа успокаивает Деву и она предоставляет свое тело для осуществления божественного замысла.
Поза и взгляд ангела также, по описанию Николая, предельно выражают содержание его миссии. Он изображен, как только что спустившийся с неба. Крылья его еще полураскрыты, а «ноги отстоят друг от друга примерно на локоть, как у бегущего; он имеет позу усердного слуги, который старается как можно скорее выполнить приказ своего хозяина». Взгляд его не высокомерен и недоступен, а приветлив, ибо он пришел не за душой, непростительно согрешившей, но с благой вестью (там же).
С описания внутренних состояний Иисуса и сестер Лазаря Марфы и Марии начинает Месарит рассказ об изображении «Воскрешения Лазаря». Приникшие к ногам Христа сестры обливаются слезами, поднятое кверху лицо одной из них, ее глаза и разлитые по всему лицу печаль и боль без слов прекрасно передают ее просьбу Спасителю, который «изображен с выражением кроткой печали на лице, но вся осанка его полна царского величия и властного достоинства» (26). Подробно описывает Месарит чувства и переживания, написанные на лицах жен-мироносиц, приближающихся к гробу Христа. Здесь и печаль, и страх перед стражниками, и глубокая любовь к погребенному, а затем — удивление необычайному видению (28).
С подобном приемом мы встречаемся и при описании ряда других сцен. Ясно, что автор экфрасиса многое домысливает за художника, но также ясно, что само изображение дает ход его мысли, указывает направление сотворчества в акте восприятия изображения. Более того, хорошо виден идеал, к которому должны стремиться, по мнению Месарита, живописцы, украшающие стены христианских храмов — это реалистическое или даже экспрессивно-реалистическое изображение человеческих (чисто человеческих!) чувств и переживаний, с помощью которых можно хорошо передать содержание изображаемых событий. Автор экфрасиса как бы стремится показать, что глубинное, «ноуменальное» содержание не поддается «прямому» изображению средствами живописи, но для людей его времени оно может быть достаточно ясно выражено с помощью экспрессивно-реалистического изображения комплекса чувств и переживаний участников «священного» события на «феноменальном» уровне.
Однако не только ради «ноуменального» уровня поддерживает Месарит реалистические черты в культовой живописи. В период, когда византийская культура как бы заново открыла для себя многие культурные ценности античности, когда духовные лица самого высокого ранга коллекционировали, изучали и описывали памятники языческой литературы и искусства, когда возродился такой, казалось бы, антихристианский жанр, как любовный роман (XII в.), — в этот период постоянных «ренессансов» и «классицизмов» образованный византиец мог себе позволить увлечься реалистическими тенденциями в живописи и самими по себе, без их какой бы то ни было семиотической функции, что мы и наблюдаем нередко у Николая Месарита. Любуясь изобразительными возможностями живописи, описывает он, например, сцену проповеди Евангелия сарацинам и персам апостолом Симоном: «Сарацинов и персов видишь ты вокруг Симона, одетых в персидские одежды с сильно растрепанными бородами, с приподнятыми бровями, с взъерошенными волосами на головах и свирепо глядящими на него; в разноцветных уборах, украшающих их головы — небесноголубых, багряных и белых. Они по-видимому, [бурно] оспаривают учение апостола; ибо каждый из них отталкивает, как можно видеть, соседа и стремится занять место напротив Симона, чтобы опровергнуть его взгляды» (20).
При чтении такого описания перед нашим внутренним взором невольно возникает яркое изображение, но отнюдь не византийского типа. Мы видим картину, написанную в лучших традициях ренессансного искусства и даже не итальянского, а скорее северного (немецкого или нидерландского) типа. В православном регионе нечто близкое мы наблюдаем лишь в русских росписях храмов XVII века. От византийской живописи ни VI, ни последующих веков не сохранилось ничего подобного. Чем же объяснить странное и настойчивое желание византийского автора видеть в культовой живописи то, чего там вроде бы не было? Только ли это обычный риторический прием и ностальгия по легендарному античному искусству? Или в Византии существовало целое направление, развивавшее традиции позднеантичной живописи и во многом предвосхитившее ренессансное искусство, но не сохранившееся до наших дней? Как бы то ни было, но византийскому автору XII века доставляет явное удовольствие рассматривать (реально или в своем воображении) и описывать изображение с яркими реалистическими чертами.
Приведем еще один характерный образец такого описания. Месарит приглашает нас рассмотреть изображение бури на Генисаретском озере: «Смотри на это ревущее море, смотри на волны, как одни из них громоздятся как горы и несутся в открытом море, другие же скользят, накатываясь на берег…. [Смотри], как темен воздух над морем, как он полон тумана и пыли, как все покрыто облаками, как безжалостно швыряют корабль туда и сюда бесконечные удары волн, ибо эвклидон, или арктический борей, обрушился на него. Наблюдай за людьми на корабле, как они снуют взад и вперед, как каждый из них советует другому, как можно скорее схватить ближайшую к нему снасть, чтобы корабль не выбросило на скалы и находящиеся на нем люди не погибли»· (25). Этот выразительный фрагмент византийской художественной прозы интересен нам не только сам по себе или как косвенное указание на породивший его живописный оригинал, но в еще большей мере — как выражение идеальных представлений византийцев того времени об изобразительном искусстве, требований, предъявлявшихся византийской культурой к живописи.
Реалистические элементы изображений рассматриваются Месаритом в качестве важных выразительных средств живописи. В композиции «Воскрешение Лазаря» он обращает внимание, например, на юношей, зажимающих носы. При этом указывает на хорошо выраженную их позами и жестами борьбу противоположных стремлений в них. Юноши желают полнее удовлетворить любопытство, своими глазами увидев воскресшего Лазаря; они устремляются к гробу, но вынуждены зажать носы и отпрянуть назад из-за невыносимого зловония, исходящего оттуда; губами своими хотели бы они восславить совершившего чудо, но вынуждены плащами своими закрыть рты; они охотно убежали бы от этого места, но чудесное событие прочно удерживает их на месте (26).