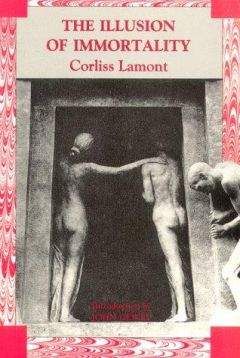По-видимому, для имморталистов было бы честнее и даже убедительнее присоединиться к героическому странствующему рыцарю бессмертия дону Мигелю де Унамуно. В своей замечательной книге «Трагическое ощущение жизни» Унамуно заявляет, что «вера в бессмертие иррациональна» и что «все разработанные аргументы в поддержку нашей жажды бессмертия, претендующей на то, чтобы быть основанной на разуме или логике, представляют собой только пропаганду и софистику». Вслед за этим Унамуно заявляет: «Верить в бессмертие души — значит желать, чтобы душа могла быть бессмертной, но желать этого с такой силой, чтобы это желание могло растоптать разум и пойти дальше него» (Unamuno de M. The Tragic Sense of Life. p. 91, 111, 114). Здесь, как я полагаю, вопрос формулируется откровенно и в вызывающей форме. Эта глава и даже вся эта книга должна именно показать, что верить в бессмертие — значит растоптать разум.
Глава VI. Мотивировки веры в бессмертие и символизм
То, что практически во всех культурах, по крайней мере до самого последнего времени, можно найти веру в некоторого рода потустороннее существование, нельзя подвергать сомнению. Но делать из этого вывод, что имеется врожденное и всеобщее желание потусторонней жизни, — это в высшей степени незаконная процедура. Как мы видели, многие первобытные народы, в том числе ветхозаветные евреи и гомеровские греки, считали, что за могилой находится несчастливый и мрачный подземный мир, где слабые тени усопших бродят в состоянии ничем не смягчаемой меланхолии. Естественно, народы с таким пониманием потусторонней жизни не обладали пламенным энтузиазмом, толкавшим их в жилище мертвых. Они считали загробную жизнь далеко не привлекательной неизбежностью и часто интересовались ею главным образом с точки зрения предотвращения вреда, который духи усопших могли нанести живым, а иногда глядели на нее просто со скучающим равнодушием. Вполне вероятно также, что в некоторые периоды и среди некоторых народов выделение человеческой индивидуальности было недостаточно значительным для того, чтобы заставить казаться гарантированным для среднего человека блестящее бессмертие.
Что касается верований в потустороннюю жизнь у буддистов и индуистов, то в этом отношении имеются значительные разногласия между учеными и даже между самими приверженцами буддизма и индуизма. Одна группа утверждает, что конечная цель нирваны — это полное угасание или поглощение индивидуальной личности; другая группа — что это состояние сознательного блаженства, которое можно сравнить с христианским блаженным лицезрением бога. Каково бы ни было правильное толкование, несомненно, что миллионы буддистов и индуистов ожидают своих последовательных перевоплощений с ужасом и отчаянием, ни на что не надеясь больше, кроме как на полное уничтожение своего собственного «я». Верований и чувств одних этих представителей Востока было бы вполне достаточно для доказательства того, что не существует никакого врожденного и всеобщего желания бессмертия. Однако в поисках доказательств этого нам не нужно выходить за пределы христианского Запада. Даже в средние века, великие века веры, мысль о потустороннем существовании вызывала у большинства людей скорее приступы страха, чем экстазы радости; они вызывали состояние меланхолического примирения с неизбежным, а не бьющую через край радость предвкушения блаженства.
Предполагаемое извечное стремление к бессмертию — это всего лишь красиво звучащая фикция, которая кажется весьма вероятной, поскольку она в какой-то мере приближается к настоящей правде. Ибо мы, по-видимому, можем считать всеобщим законом положение, гласящее, что в каждом нормальном человеке, если идея бессмертия достаточно прочно войдет в его сознание и противодействующие силы образования и разума не слишком могучи, можно стимулировать желание достойного бессмертия. А это означает, что стремление к потустороннему существованию есть стремление, только потенциально присутствующее в каждом человеческом сердце, поскольку оно не становится действительным, пока ему не предложат соответствующим образом надлежащий вид существования после смерти.
Однако в этом нет никакой тайны, поскольку, как знает каждый современный специалист по рекламе, тот же самый принцип имеет место и в отношении возбуждения желания каждого предмета, реального или воображаемого. Но вследствие различных психологических и аффективных факторов, которых я позже коснусь подробно, особенно легко возбудить стремление к вечной жизни; и, будучи раз возбуждено, это стремление может быть развито с помощью соответствующей техники в такую могучую и по видимости постоянную эмоциональную систему, что его легко можно принять за человеческий инстинкт. Следует предположить, что даже в областях, где индуистские и буддистские священники выставляют уничтожение в качестве конечной цели, жители, если их подвергать соответствующим воздействиям, могут быть научены глубокому стремлению к бессмертию.
Древние греки и древние евреи не жаждали бессмертия главным образом по той простой причине, что они не могли себе представить желательного бессмертия; они никак не могли вообразить, что человек может вести достойное существование, будучи лишен своего земного тела. Религиозная революция, основанная на жизни Христа, его страданиях и восстании из могилы, дала необходимое основание для удовлетворительной будущей жизни, пообещав воскресение тела. В течение какого-то времени ощущалось радостное и блаженное чувство полной победы над смертью, психологическое освобождение ума и души, может быть, неизвестное до того дня. Эти чувства подкреплялись верой, что скоро наступит конец мира и что поэтому победа скоро станет очевидной и ясной для всех. Но мир упорно отказывался разыграть этот великий финал.
Отцы церкви стали выполнять свои обязанности и напоминать верным о первородном грехе и мучениях ада. Их изобретательные умы, обеспокоенные вопросом о том, что должна делать душа в промежуток между смертью и воскресением, ухватились за понятие чистилища и дали ему заметное место в сложном христианском богословии. Святая католическая церковь создала тогда систему индульгенций, обеспечивая облегчение наказаний человеческих душ в чистилище; и, кстати, она в такой степени сделала выдачу этих индульгенций делом кассовых взносов в церковные сундуки, что скандальные злоупотребления ими вызвали бунт Мартина Лютера, вылившийся затем в Реформацию.
Католическое учение и практика так подчеркивали значение ада и чистилища, что едва ли можно было ожидать, что массы людей будут особенно сильно жаждать бессмертия. По-видимому, прилагались все усилия для того, чтобы постоянно вколачивать в умы людей идеи о страшных наказаниях, ожидающих их, как только они умрут. С целью помочь укреплению подобных представлений путем процесса ассоциации сама смерть изображалась в наиболее страшном виде. Отталкивающие эмблемы смерти бросались в глаза повсюду — в церквах и монастырях, на мостах и дорогах, на резьбе столов и стульев, на шторах комнат, на кольцах и на молитвенниках. Художники создавали одну за другой ужасные картины, изображавшие «пляски смерти», на которых смерть была представлена в виде уродливого скелета, ведущего свои жертвы к безвременному концу. Смерть играет на скрипке во время свадеб, бьет в барабан во время сражения; нависает тенью над ученым, скульптором, художником; склоняется над новорожденным ребенком в его колыбели. В результате, как говорит У. И. X. Леки, «ужасы смерти стали на века кошмарами воображения» (Lесkу W.Е. History of European Morals. Appleton, 1927, vol. I, p. 211). Святой Франциск Ассизский явно шел не в ногу с временем, когда мистически говорил о «сестре-смерти».
Даже Данте отвел большую часть своей великолепной «Божественной комедии» и посвятил свой гений в основном описанию различных вызывающих ужас сторон нижних областей потустороннего мира. Но чем более художественным было его живое изображение ада и чистилища, тем более эффективно оно наполняло умы своих читателей мрачными предчувствиями относительно другой жизни. Рай Данте был гораздо менее убедителен, чем другие изображенные им вещи, и по своему художественному уровню был значительно ниже других частей его произведения. Святой Фома Аквинский не хотел, чтобы ад забывали даже в раю, заявляя: «Чтобы не было никакого ущерба счастью блаженных на небесах, перед ними открывается превосходное зрелище на муки осужденных». Это заявление основывалось на общем принципе, согласно которому сознание противостоящего несчастья увеличивает наслаждение от какого угодно удовольствия.
Священники и верховные служители церкви по большей части, несомненно, искренне верили, что их устрашающие учения нравственно необходимы и совершенно верны, но для простого человека было вполне естественно отступать в страхе перед их чудовищными пророчествами. С какой жестокой и страшной буквальностью могли восприниматься эти учения, хорошо показывает замечание Марии Кровавой, католической королевы Англии в XVI столетии, которая заявляла: «Поскольку души еретиков в потусторонней жизни будут вечно гореть в аду, не может быть ничего более уместного для меня, чем подражать божественному возмездию и сжигать их на земле».