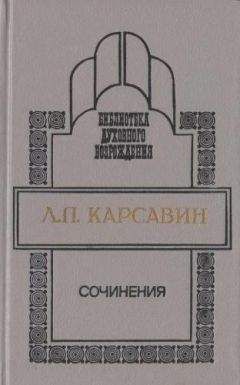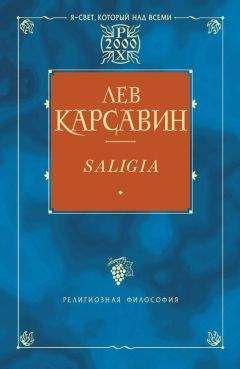Профессор. А не думаете ли Вы, что здесь исходный момент не Куликово поле, а Куликово поле вместе с сундуком? Ведь Вы же сами говорите, что это «усиливает» образ.
Автор. Это безразлично. Если даже Вы правы, характерно, что тональности обеих частей сравнения существенно различны. Ведь героическая битва сопоставляется не с «темными временами незаметного накопления сил», не с «медленным созреванием национальной идеи» или «узким кругозором безличных властителе й», ас самым прозаическим сундуком. Дионисий Ареопагит утверждает, что лучше высказывать о Боге имена, явно Его достоинство умаляющие, чем имена, видимо соответствующие Его величию. Так лучше назвать Бога червем, камнем, чем благом, красою и т. д. Действительно, называя Бога красою, мы вносим в идею Божества что–то наше, человеческое и условное, тогда как…
Профессор. Милый мой, Вы опять за свое! Слезьте с Вашего конька и, если не можете вернуться к предмету нашей беседы, вернитесь хоть к «героической» Куликовской битве.
Автор. Делаю Вам эту уступку, тем более, что все дороги ведут в Рим и от поля битвы, от Куликова поля очень не далеко до Царствия Небесного. Не даром на нем кулики славят Господа, как, впрочем, и «всякое дыхание». Но не буду, не буду… Пока мне хочется указать на одно из основных свойств русской души — на ее стыдливость или стыдливую сдержанность. Оно объясняет неумение наше спокойно и серьезно говорить о возвышенном и дорогом и отдаваться допустимому в приличном обществе пафосу. О возвышенном и Божественном…
Профессор. Например — о Куликовом поле?
Автор. например, о Куликовом поле… русский человек говорит или с усмешечкой или с исступлением раскольника. Но что означает наша усмешечка или ужимка?
— Особый вид Богопочитания.
Профессор. Вот неожиданное заключение! Вы положительно неисправимы.
Автор. Мы высказываем задушевнейшие наши мысли и улыбаемся. Отчего улыбаемся? — Оттого, что живет в нас какое–то сомнение. Сомнение в чем? — Простите, я начинаю говорить стилем «Салигии», но автору это извинительно. — Разумеется, не в самой задушевной нашей мысли.
Профессор. А почему бы и не так?
А в т о р. Да потому, что нельзя сомневаться в самом задушевном и дорогом, потому что оно перед нами и в нас со всею убедительностью истины, хотя и облеченной туманом непостижимости. Если бы сомневались мы в нем, оно бы нас не влекло к себе и не волновало. Тогда бы мы и не думали о нем и не смеялись бы над ним, ибо нельзя смеяться над несуществующим.
Профессор. Почтенный автор «Салигии», во первых, Вы изменяете «русской народной душе», впадая в пафос, вплоть до употребления славянского речения «ибо». А во вторых, все Ваши возгласы — чистейшая метафизика.
— «Истина находится во мне!», «Истина мне говорит!» Знаем мы эти восклицания. Что такое Истина, да и есть ли она? Вот Вы с самого же начала считаете нужным сослаться на непостижимое, а сейчас, вероятно, заговорите и о «Божественном Мраке». Согласен — «русский человек» (уступаю Вам этот метафизический термин) высказывает задушевную мысль, в которую верит и которая ему дорога. Но в то же самое время он подсмеивается над нею, над нею с а м о ю, а не только над формою ее выражения, как, кажется, склонны Вы думать. Для непредубежденного человека ясно, что описываемое Вами состояние духа не что иное, как сомнение или сочетание желания верить с бессилием поверить.
Автор. Совершенно верно. Но скажите. — Что это за состояние «желание верить?» Должен же быть у веры некоторый объект. А «желание верить», конечно, — сочувственное восприятие стремления веры к ее объекту. Откуда же берется этот объект?
Профессор. Его создает потребность верить.
Автор. Но ведь и потребность верить, как некоторый вид веры, немыслима без объекта.
Профессор. Без причины, мой юный друг, а не без объекта или цели.
Автор. Нет. — Мы ощущаем и воспринимаем потребность верить или веру, как стремление к чему–то определенному в своей неопределенности и как некоторое ощущение, восприятие или охватывание (назовите, как хотите) этого «что–то». Стремление и потребность (и то и другое, собственно говоря, одно и то же) есть уже зачаточное обладание. И вера не что иное, как смутное знание и влечение к чему–то и чем–то. Так непререкаемо говорит нам наш внутренний опыт. Легче усомниться в бытии ннешнего мира, мира явлений, чем в бытии «вещи в себе», а наше «что–то» и есть самая подлинная «вещь в себе» или лучше — «вещь в себе и в нас». Более того. — Только на основе подлинного и живого восприятия «вещи в себе и в нас» возможна попытка отрицать бытие мира явлений. Вы сами знаете, что без «вещи в себе» никак не проникнуть в систему одного из крупнейших немецких мистиков — Канта. В поисках объяснения Вы, может быть, станете ссылаться на какие–то никому неведомые свойства Вашего сознания. Но согласитесь, что у меня останется важное преимущество согласованности моего объяснения с внутренним моим опытом.
Профессор. С Вашим, но не с моим.
Автор. Нет, и с Вашим, если только Вы не будете застилать его предвзятыми мнениями и традиционными системами, которые, право же; не лучше, а хуже «авторитета» схоластиков. Вы правы, потребность верить немыслима без причины. Но она как вера не мыслима и без объекта или цели. И эта цель то же самое, что причина. Объект веры, как причина, порождает стремление к нему, как к цели. С самого начала в силу исконной связи своей с моим сознанием он и причина и цель сразу, и воздействие его и стремление к нему зарождаются одновременно вместе с зарождением моего я. Отрицать объективную цель стремления значит не только отвергать, как иллюзию, данные нашего опыта (не давая при том объяснения этой иллюзии), но и предполагать, что какое–то совершенно неизвестное нам и не данное в нашем опыте, а воображаемое стремление…
Профессор. Почему не данное?
Автор. Потому что дано только стремление к воспринимаемой, как объективная, цели. Удивительная у Вас склонность отрицать старую истину — «ex nihilo nil fit»! Вы готовы предположить, что стремление возникает буквально из ничего. Ведь его же нет, абсолютно нет в «предшествующем» ему «состоянии сознания»… Итак, отрицать объективную цель стремления значит воображать несуществующее стремление и предполагать, что оно создает себе иллюзорно–объективную цель. Но зачем стремлению предаваться такому странному занятию, раз оно для своего существования ни в какой цели и ни в каком объекте не нуждается? Я допускаю для Вас возможность только одного выхода. Вы можете сказать: «Мы ничего не знаем и ничего никогда не узнаем». Но не забывайте, что этим Вы отрезаете себя от источника познания, от вопиющего о себе опыта транссубъективности. И уже во всяком случае у Вас нет никакого права навязывать мне будто бы кем–то найденные «категории мышления» и «формы созерцания». Их не нашли, а постулировали ради спасения наук и ценой отказа от единственной важной науки — богословия.
Профессор. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете».
А в т о р. С такими неверами, как Вы, так даже очень холодно.
Профессор. Не всякий обладает мистическим опытом…
Автор. Нет, всякий.
Профессор. Позвольте мне отвечать за самого себя… Впрочем, спорить об этом совершенно бесполезно: ни Вы меня, ни я Вас переубедить не в силах. Продолжайте лучше изложение Вашей мысли, которая, признаюсь, живо меня интересует.
Автор. Все–таки интересует? Я бы не стал продолжать, если бы не был уверен, что Вы, как и всякий скептик, не только сомневаетесь в своем скепсисе, но и чуточку верите или хотите верить. Во всяком случае, я надеюсь на Ваше окончательное обращение. — Для нас, русских, характерно, как Вы сказали, сочетание желания и бессилия верить. Желание веры (я вновь настаиваю на этом) есть уже вера, т. е. некоторое восприятие Истины. А, следовательно, бессилие поверить никоим образом не может относиться к объекту веры, который выше всяких сомнений. Равным образом бессилие поверить не может относиться и к моему стремлению, т. е. желанию верить, потому что оно налицо, и не будь его, не было бы бессилия, которое вместе с желанием и называется сомнением.
Профессор. Должен сказать, что Ваша эквилибристика понятиями мне не очень нравится. Готов воздать должное ее остроумию, но не соглашусь считать ее убедительной. Я никак не могу понять, почему нельзя сомневаться в объекте веры. Ведь именно это мы и признаем сомнением. Кажется, на сей раз и «внутренний опыт» высказывается не в Вашу пользу. Приняв Ваше, мнение придется отвергнуть и существование лжи.
А в т о р. Ее и нет.
Профессор. Да, есть только недостаток Истины.
Автор. Совершенно верно, и Ваш смех несколько преждевременен. Разумеется, сомневаться в объективности своей веры и подобно Вам считать объект ее фантасмою вполне возможно. Странно было бы отрицать это обычное состояние духа. Но, как такая болезнь ни распространена, она не должна нас обманывать. Весь вопрос в том, какова природа этого сомнения. Эмпирически оно существует, но по природе оно не более, как иллюзия. Я могу думать, будто я сомневаюсь в объекте и объективности моей веры. На самом деле, я сомневаюсь не в нем.