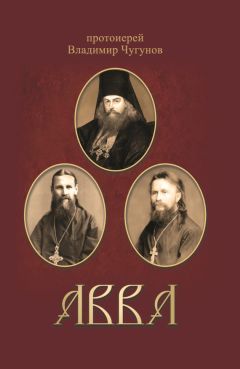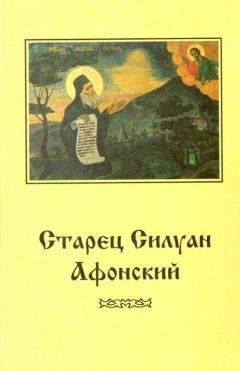За это время получили письма из Крыма. Вопли и стенания. Корчится в предсмертных конвульсиях российский удав – Ленин, второй Иуда! Боже мой, как страшно, как темно у этого одра, «лучше не родиться человеку сему». А в то же время думаешь и знаешь: тебе ли судить его, имевшего «безумство храбрых», способность принять историческую ответственность, от которой малодушно и трусливо всю жизнь уклонялся. И, право, не знаешь, – на весах вечной правды Божией (а не справедливости, так сказать, педагогической), что лучше: Иуда ли, дерзнувший совершить свою безумную мысль, хотя на дне её всегда таилась осина и верёвка, или ученики, которые «бежаша», а один трижды отрёкся. Ведь могло быть и так, что его отречение явилось бы решающим показанием, предательством, а не невинным разговором с служанкой на дворе, и тогда… во что превратился бы князь апостолов? И невольно хочется молиться около этого страшного мрака, о зарезанной и замученной им России, и… о мучителях… Безумная мысль: может быть, Русь спасётся тогда и тем именно, когда она станет молиться о мучителях своих…
Опять острый приступ страдания и какой-то чёрной греховной тоски: согрешил я, что Господь отнял от меня свет Свой и радость. Кажется, у меня что-то делается с сердцем. У меня нет здесь материала для работы, кроме того, я изнемогаю от безволия, как Николай II к концу царствования. Да и тяжело мне одному против всех. С каждым днём всё заново убеждаюсь, что в здешних церковных кругах полная неподвижность и потому мертвечина: внешне они ко многому приспособились, но внутренне остаются во дни всеобщей катастрофы совершенно неизменными и скопчески бездарными. И, кроме того, при первом же малейшем поводе проявляется легкомысленное самомнение: шапками закидаем.
Достаточно произвести впечатление на дикарей греков нашим богослужением и уже толкуют о миссии, а с чем, какими средствами?
Разумеется, русская душа совершенно особая эолова арфа, но она резонирует не только на пение ангелов в небесах, но и на звериный лай комсомолов.
Газеты приносят новые и новые вести о суде над патриархом, об его Голгофе.
По ночам просыпаюсь и в ужасе и смятении думаю об его гефсиманской муке. Господи, укрепи его, дай ему силы пронести крест свой до светлого мученического венца или спаси его силою Твоею… А между тем большевики устраивают-таки соединение церквей по способу антихристову – в предании на муку.
Боже мой, но что же я могу сделать? Научи, просвети.
Одновременно умирает русский Иуда-Ленин – две главы России призываются ко Творцу, святитель святой Руси – и чёрно-красный антихрист… Но я невольно молюсь и о нём. Этот сифилис, которым поражена Россия, не мог лучше воплотиться, чем в нём, и гибель России оказывается сначала буйством неистового хлыста – Распутина, а затем маньяка – прогрессивного паралитика. Боже, какой потрясающий ужас! Бесы… и несть изгоняющего, доколе не изгонит их Дух Святый…»
«У меня к Пасхе будет великое утешение: здесь, в общежитии, будет совершена мною пасхальная служба, есть уже разрешение от архиепископа, и уже начинаются спевки. Кроме радости иметь свою службу, хотя и среди чужого стада, меня ещё услаждает, что это будет в комнате, открытая литургия без иконостаса. Я давно уже стремлюсь к упразднению иконостаса, чтобы приблизить совершение таинства к молящимся. Если было время, когда естественно появился иконостас, теперь нужно другое, – его устранение, как не было его и в раннем христианстве. И гонение, обрекающее на катакомбы, вместе с условиями беженства, ведут к тому же. Благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних!»
«Из России прежние вести: казнь католического епископа, вызвавшая негодование всего мира. Но у нас, русских и православных, невольная боль и обида: почему же не было этого негодования, когда убивали русских епископов и священников? Это и в газетах, и в устах у всех: конечно, свои рубашки ближе к телу, но в этом грех и неправда к нам западного христианства».
«26. III.(7.IV).1923
Канун святой Пасхи
Вот и пролетела Страстная неделя на чужбине. Благодаря прекрасным службам церковным, в которых и мне приходилось участвовать, и не почувствовалась чужбина, – в храме, среди русских, у себя на родине, и здесь так хорошо молятся… Хотя я провёл Страстную без особого подъёма – увы, их теперь у меня не бывает по грехам моим – и притом только зрителем, а не пастырем, тем не менее чувствую полное молитвенное удовлетворение. А пасхальную службу совершу здесь, в общежитии, в комнате, – беженская служба…
«26 марта.
Пасха Христова
Вот и Пасха на чужбине. Ночью была служба. Было хорошо и трогательно; хотя мало было народу. Молился от сердца о нас и дорогих отсутствующих, о Феде, о родине, о Церкви Божией…»
«31. III (13.IV).1923
День Перекопского боя.
Пятница Светлой недели.
Федя исчез от нас… Иду совершать литургию, молиться о нём. От него нет вестей, нет их давно и из Крыма. Хотя я и сохраняю надежду на его приезд, но он почему-то всё отсрочивается. Бедный мальчик! Ему приходится, как и тогда, быть за нас искупительной жертвой. А я связан в своих движениях его отсутствием… Из России вести идут о голоде. Стыдно своего здесь благополучия. Вчера в местной гимназии были разговоры и о русской революции, и о народе… я невольно задумался, когда о. Леонид предложил мне вопрос – сравнение здешнего и русского благочестия. Здесь действительно и Страстная, и Пасха были отмечены большим подъёмом. Разумеется, я мог наблюдать его только, так сказать, боком и со стороны, но было очень хорошо, как дома, т. е. по внешнему благолепию даже лучше, чем дома. Но когда думаешь о российских мучениках, то на сердце ложится такая скорбь и такое чувство виновности: они так страдают… И эта тень от грядущей Голгофы патриарха. От Феди нет известий, а проникающие сюда слухи различны и противоречивы. Одни говорят, что пароходы конфискованы, а из Крыма пишут, что поездка его всё-таки готовится. Уедем, его не дожидаясь, – грустно это, но ничего не сделаешь. Пока его нет, я чувствую себя связанным по рукам и по ногам. Очевидно, такова воля Божия. Здесь всюду движение против советской власти, и большое искушение поднять свой голос, но практической нужды в том я совершенно не чувствую…»
«8(21).IV.1923
Константинополь
Доживаем последние дни в Царьграде. Среди безумной и бессмысленной беготни за визами, за деньгами всё сильнее чувствуется и обычная предотъездная нервность, и жаль расставаться с Константинополем, в котором мы видели столько добра и пережили так много. Кроме того, так и не суждено было нам дождаться Феди. Вчера было получено оттуда письмо, он всё надеется выехать, но всё тянется и тянется. Он остаётся там нашим заложником и искупительной жертвой… Уезжаем отсюда, как будто расстаёмся и с Россией… Расстаёмся с Царьградом. За эти месяцы мы сроднились с ним, и уже грустно уезжать, особенно так и не дождавшись Феди. Вчера делали прогулку по Босфору, прощаясь с морем, которое соединяет нас с родиной. Теперь уедем далеко от моря и от южного солнца. Оттуда проехали в Стамбул, посмотреть гулянье турок во время Рамадана. Наконец, сегодня получил деньги, и завтра едем. Благослови, Господи, путь наш, умудри, сохрани! Со смущением оглядываюсь на эти месяцы: более трёх месяцев я со своей семьёй имел стол, квартиру, стирку от добрых людей, от земского союза. Мне друзья и учреждения с разных сторон посылали деньги, так что я мог перебирать и кочевряжиться. Нас лечили, – и ноги, и лёгкие, и зубы, всё даром! Так стыдно и, вместе с тем, так радостно – за Россию. И со стыдом и мукой вспоминаю о своих грехах в тот страшный голодный год в Ялте. Господи, дай мне волю и силы перестать быть тунеядцем, стать у своей межи на работе Господней…»
«15(28).IV.1923
София. Болгария
Вот и оставили мы сказочный Царьград и имеем днёвку в маленькой Болгарии, в деловой, провинциальной, прозаической Софии, столь странно и как будто без всякого права носящей великое имя. Путешествие хотя и утомительно, но интересно. Радует и возбуждает эта смена впечатлений, наций, костюмов. Неля радуется по-детски, вместе с Серёжей. Культура здесь русская, как русская и вся ориентация. За мною ухаживают, убеждают здесь остаться, приём самый хороший и неожиданный. Разумеется, здесь глухая провинция. Духовного в этих духовных лицах, конечно, нет ничего, особенно наряду с светоносным епископом Серафимом и вообще с русским православием. Но это люди западного покроя, и притом хотя внешней, неглубокой, но всё же европейской культуры, и этим они отличаются коренным образом от чуждых нам азиатов-греков… Здесь греков, конечно, не выносят. Как для меня важно и поучительно, что я пожил в Константинополе, сталкивался с греками и от них получил определённое впечатление, внутренне с ними покончил…
Верно одно: даже до Праги не довёз я своих наивных восторгов и вдохновений. Всё так трудно – так иначе, чем я думал (речь о разочаровании по поводу возможного и будто бы спасительного соединения с католичеством – примечание автора). Но иначе ведь и быть не могло. Московские церковные бандиты, по газетам, свергли патриарха, а за духовными палачами не замедлят и светские. Значит, новый разрыв с официальной русской церковью неизбежен, и исключительное значение получает всё происходящее в церкви. Какая страшная ответственность. Господи, просвети и благослови! О Феде ничего. Господи, дай его нам увидать здесь! Аминь».