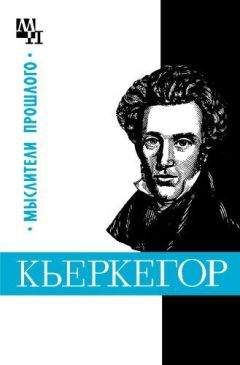ГРЕХ И УНЫНИЕ
Один хасид пожаловался Люблинскому равви, что его терзают дурные страсти и от этого он впадает в уныние.
Равви сказал ему: «Больше всего остерегайся уныния, ибо оно хуже и опаснее греха. Когда Злое Начало пробуждает в человеке страсти, оно делает это не затем, чтобы ввести его в грех, а затем, чтобы он впал в уныние».
Говорил Люблинский равви: «Грешника, сознающего свой грех, я люблю больше, чем праведника, который знает, что он праведник. Но если грешники считают себя праведниками, то о таких сказано: «Даже у адских врат не каются»*[262]. Ибо они думают, что их ведут в ад, чтобы они искупили другие души».
Жил в Люблине великий грешник. Всякий раз, когда ему хотелось поговорить с равви, он сразу шел к нему и болтал с ним, словно близкий его друг и приятель. Многие из числа хасидим дивились этому и постоянно спрашивали друг друга: «Как возможно, что наш равви, которому достаточно лишь раз взглянуть на лицо человека, чтобы узнать всю его жизнь от начала до конца и определить истинный корень его души, не замечает, что перед ним – грешник? А если видит, как позволяет ему разговаривать и общаться с собой?» Наконец, хасидим набрались храбрости, пошли к равви и задали ему этот вопрос. Цадик ответил: «О нем я все знаю, как и вы. Но вам известно, как люблю я веселость и как ненавижу уныйие. Да, этот человек – великий грешник! Но покуда другие сожалеют о том моменте, когда согрешили, потом ненадолго раскаиваются, но затем снова впадают в грех, этот человек не ведает ни сожаления, ни хандры и постоянно счастлив и весел, словно находится в некой башне ликования. Излучение от его веселья переполняет и мое сердце радостью».
Один хасид Люблинского равви постился однажды от субботы до субботы. Накануне субботы он почувствовал такую сильную жажду, что едва не умер. Пошел он к колодцу и уже хотел напиться, но подумал, что, не желая потерпеть немного до наступления субботы, губит весь недельный пост. Переборов себя, он не стал пить и отошел от колодца. И тут охватило его чувство гордости за то, что он устоял перед таким искушением. Но, обдумав все, затем решил: «Лучше пойду и напьюсь, чем дам гордости завладеть моим сердцем». И пошел к колодцу. Но как только зачерпнул воды, жажда прошла. С наступлением субботы он пошел в дом учителя, и, как только переступил порог, равви крикнул ему: «Лоскутное одеяло!»
Пришел к Люблинскому равви некий человек просить, чтобы Ясновидец избавил его от посторонних мыслей, мешающих ему молиться. Равви рассказал ему, что следует делать, но проситель не отстал и продолжал задавать вопросы. Наконец равви сказал ему: «Не знаю, почему ты жалуешься на какие–то посторонние мысли. Тому, у кого все мысли святы, нечистые помыслы чужды, хотя и приходят время от времени. Потому и называют их «посторонними». Но для тебя это обычные мысли, которые всегда с тобой. Так кому же ты хочешь их приписать?»
Равви Иаков Ицхак любил принимать у себя бедных странников и сам им служил. Однажды он принял одного такого странника, подал ему еды, наполнил стакан и стоял рядом, готовый удовлетворить любое пожелание гостя. После трапезы равви собрал грязную посуду и отнес на кухню. Гость спросил его: «Равви, скажи мне вот что. Я знаю, что, служа мне, ты исполняешь заповедь Бога, желающего, чтобы странника принимали как Его посланца. Но почему ты не погнушался отнести на кухню посуду?»
Равви ответил: «А разве вынос на Йом–Кипур из Святая Святых ложки и чаши не входит в обязанности первосвященника?»
Один ученик Люблинского равви рассказывал: «Как–то праздновал я в Люблине праздник Кущей. Перед началом хвалебных песнопений равви вошел под навес, чтобы произнести там благословение над «четырьмя произрастаниями». Почти час я наблюдал мощные сотрясения его существа, пронизанного, казалось, непомерным страхом. Все люди, видевшие это, подумали, что это главная часть всей церемонии. Их тоже охватил огромный страх, и они затрепетали. Я же продолжал спокойно сидеть на скамье, чувствуя, что главное еще впереди. Когда я поднялся, чтобы лучше видеть равви, он уже дошел до заключительных слов благословения. Я видел, как он – в высшем состоянии духа, – произнося слова благословения, сделался недвижим, и слышал, что ему вторят Небеса. Так же и в древности Моисей на горе не убоялся грома и дыма, тогда как люди внизу стояли и трепетали, но уверенно приблизился к облаку, из которого Бог говорил с ним».
Говорил равви Бунам: «У Люблинского равви хасидим лучше, чем у меня, но самого равви я знаю лучше их всех. Ибо однажды когда я в отсутствии Ясновидца вошел в его комнату, то услышал шепот: то одежды равви рассказывали друг другу о его величии».
Однажды во время молитвы Люблинский равви взял понюшку табака и стал нюхать. Самый пунктуальный из верующих заметил это и сказал равви: «Нехорошо прерывать молитву». Равви ответил ему: «Один великий царь гулял как–то по своей столице и услышал пение старого уличного певца, аккомпанировавшего себе на арфе. Музыка понравилась монарху. Он взял певца к себе во дворец и каждый день его слушал. Музыкант не захотел расставаться со своей старой ветхой арфой и поэтому во время игры часто был вынужден останавливаться и настраивать ее. Однажды во время концерта какой–то придворный заметил ему: «Ты мог бы настроить свой инструмент заранее!» Арфист ответил: «У нашего царя в его оркестрах и хорах есть музыканты и получше меня. Но если они не смогли удовлетворить его и он взял во дворец меня с моей арфой, то ему, должно быть, понравились наши с ней странности».
Спросил один хасид Ясновидца из Люблина: «К словам Мишны «человек должен благодарить Бога за зло и восхвалять Его за это» Гемара добавляет: «…должен принять с радостью и со спокойным сердцем». Но как можно принимать зло с радостью?»
Цадик услышал, что вопрос этот исходит из сердца, трепещущего перед злом. Он сказал: «Как ты не понимаешь слов Гемары, так я не понимаю слов Мишны. Разве существует зло?»
Это случилось на свадьбе внучки Ясновидца Хинды. Когда подносились дары, равви Иаков Ицхак положил голову на сложенные руки и, казалось, заснул. Бадхан*[263] несколько раз кричал ему: «Брачные дары от семьи невесты», – и ждал, пока равви встанет, но тот лежал неподвижно. Все остальные стояли в молчании и ждали, покуда равви проснется. Когда прошло полчаса, сын Ясновидца зашептал отцу на ухо: «Отец, крикнули, что пора преподносить дары от семьи невесты». Старый равви очнулся и произнес: «Я преподношу самого себя. Через тринадцать лет молодые получат этот дар».
Через тринадцать лет Хинда родила сына, которого в честь деда*[264] назвали Иаковом Ицхаком. Когда он вырос, то каждой чертой напоминал Люблинского равви, например правый его глаз, как и у деда, был немного больше левого».
МЕСТО ХАСИДИЗМА В ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
Задачей выяснения места, которое хасидизм занимает в истории религий, не является исследование его исторических взаимосвязей, влияний, испытываемых им, и влияний, которые он сам оказывал. Данная задача состоит в том, чтобы показать, какой особый вид религии обрел здесь свою историческую форму. Мы говорим об исторической форме какой–нибудь религии, когда речь идет не об одном только личном размышлении и личном опыте, а об общественном движении, выходящем за рамки нескольких поколений и условий их жизни. Чтобы понять особый вид религии в ее историческом проявлении, нам следует выяснить, к какому типу последнее принадлежит. Затем необходимо втиснуть его в рамки типологии и установить свойственное ему видовое отличие.
Наш метод, следовательно, будет неизбежно сравнительным, но не в том смысле, в каком он известен нам по сравнительной истории религий. Конечно, мы также можем начать с выяснения основополагающих идей, скрытых в определенных текстах и обрядах, общих для них и для текстов и обрядов других религиозных течений исторического или этнолого–фольклорного характера. Однако для нас выявление этих основополагающих идей не является задачей и предметом исследования, а только его отправным пунктом. Что нам следует сделать, так это показать, сколь многообразными путями в истории религий одна и та же основополагающая идея формируется различными типами и, в добавление к этому, сколь многообразными способами внутри одного и того же типа одна и та же основополагающая идея формируется различными проявлениями, какое значение она получает здесь, а какое там. Таким способом мы должны достичь прежде всего четкого определения типа религии, а затем ее индивидуальных исторических проявлений. Для нас несущественна основополагающая идея сама по себе, но мы хотим знать, почему она была включена в определенный контекст и какое благодаря этому изменение затронуло ее.