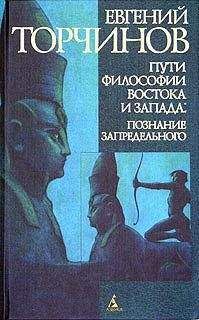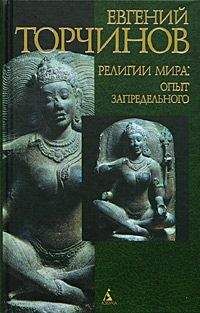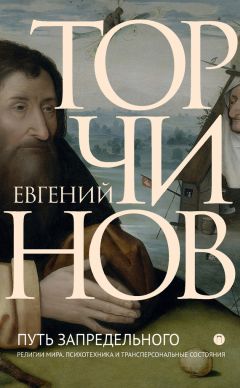Таким образом, в буддийской космологии описывается не физическая Вселенная, а психокосм, прежде всего психокосм человека.
Что же, собственно, такое эти «измененные состояния сознания»? В сущности, мы сталкиваемся с ними постоянно. То, что теоретики прекрасного называют «эстетическим наслаждением», есть не что иное, как форма измененного состояния сознания. Хорошо известно, что наиболее ярко выраженной психоделической (изменяющей психику) функцией наделена музыка, что отнюдь не делает ее слушание чем-то предосудительным; скорее напротив, мы считаем за благо сильное эстетическое переживание под воздействием музыки, считаем (и справедливо), что оно способствует катарсису, а Шекспир даже утверждает, что люди, не любящие музыку, способны на самые низкие поступки. Наконец, даже самый невинный бокал шампанского на Новый год (особенно в контексте предпраздничного возбуждения и особой «елочной» атмосферы) также, безусловно, изменяет сознание. Все культуры и все цивилизации знали и освящали те или иные способы достижения таковых состояний (от того же бокала шампанского до мухоморов и пейотля), что, собственно, и делает проблему изменения сознания интересной для этнологии. Поэтому измененные состояния сознания нам прекрасно знакомы, причем значительная их часть не связывается в нашем понимании ни с какой психопатологией. Другое дело интенсивность переживаний. Измененные состояния сознания высокой интенсивности могут притягивать, пугать, вызывать интерес психологов и психиатров; некоторые из них ассоциируются в сознании религиозных людей со святостью, некоторые – с патологией и безумием. Здесь уместно вспомнить известный анекдот, отражающий раздвоенность религиозного сознания в эпоху секуляризации: «Почему когда мы говорим с Богом – это молитва, а когда Бог говорит с нами – это шизофрения?» Для секулярного общества вполне характерна ситуация, когда благочестивый христианин со слезами на глазах читает об экстазах или видениях древних и средневековых святых, но немедленно бежит к психиатру, когда нечто подобное происходит с ним самим.
Выражаясь точнее, измененные состояния сознания есть любые его состояния, отличные от «стандартных», или «обыденных». Я специально избегаю слова «нормальных», поскольку оно, во-первых, сразу же ставит практически неразрешимый вопрос о границах нормы и патологии, а во-вторых, по той причине, что ряд вполне экстраординарных состояний сознания ни к какой патологии вообще отношения не имеют. Из-за последнего соображения в прежних своих работах я избегал сочетания «измененные состояния сознания», заменяя их выражением «трансперсональные состояния», дабы не вводить ложную оппозицию «нормально-измененное сознание», однако теперь я отказываюсь от этого, поскольку игнорировавшееся мною ранее словосочетание все в большей и большей степени приобретает терминологическую однозначность и семантическую нейтральность. Далее для экономии места я буду для обозначения измененных состояний сознания использовать аббревиатуру ИСС.
Глава 2. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОГО ДУАЛИЗМА И НЕДВОЙСТВЕННОСТЬ
Начнем с проблемы так называемого мистического опыта и его возможной онтологической релевантности.[227] Однако прежде мне хотелось бы сделать одно предварительное замечание терминологического характера. Оно касается самого определения «мистический». В своей монографии «Религии мира: опыт запредельного» я уже высказывался о терминологической нечеткости и неудовлетворительной полисемичности этого определения,[228] поэтому здесь, во избежание повторов, изложу свои соображения в максимально сжатой форме.
Слово «мистика» (и производные от него) употребляются в литературе в нескольких совершенно различных значениях (что создает терминологическую путаницу): 1) для обозначения переживаний единения или слияния с онтологической первоосновой мира и всякого бытия вообще (Бог, Абсолют и т. п.); 2) для обозначения различного рода эзотерических ритуалов (мистерий); 3) для обозначения различных форм оккультизма, имеющих порой ярко выраженный паранаучный характер, – магии, астрологии, мантики и т. д. Понятно, что все эти явления совершенно гетерогенны и обычно имеют совершенно различную природу, что делает слово «мистика» вводящим в заблуждение и создающим препятствия для понимания. Если же учесть, что в обыденном сознании к области «мистического» относятся также всевозможные истории «про злых духов и про девиц» с участием зомби, оборотней и вампиров, то ситуация становится просто удручающей.
Кроме того, слово «мистика» в силу специфики иудео-христианского (европейского) восприятия таких проблем, как вера и знание, вера и разум, стало прочно ассоциироваться с иррационализмом и чуть ли не с обскурантизмом, что сразу создает если не реакцию отторжения, то, по крайней мере, предубеждение у современной научной и философской аудитории при обращении к проблемам мистического опыта.
Между тем в других культурах подобное противопоставление «мистического» и рационального неизвестно, и «мистики» соответствующих традиций никоим образом не отрицают разум (точнее, дискурсивное мышление) как высшую инстанцию в пределах его компетенции, и более того, зачастую создают вполне рационалистические (в широком смысле этого слова) философские системы на основе осмысления (то есть опять же рационализации) своего «мистического» опыта.
Это относится прежде всего к индобуддийской культурной традиции, хотя, по-видимому, подобная ситуация не была полностью неизвестна и в Европе. Во всяком случае, вполне вероятно, что философская система Спинозы была в значительной степени рационализацией на основе картезианской методологии мистического опыта голландского мыслителя. Как уже говорилось, Б. Рассел предполагает то же самое и относительно гегелевского абсолютного идеализма. Я уж не говорю о Вл. С. Соловьеве, система всеединства которого находилась в самой непосредственной связи с его мистическими переживаниями «софийного» характера. Но тем не менее представление о несовместимости мистического и рационального достаточно укоренилось и стало подлинным препятствием для серьезного философского обсуждения проблем «мистического» опыта.
Поэтому я считаю нужным (для себя по крайней мере) отказаться от определения «мистический» и заменить его словом «трансперсональный», то есть выходящий за пределы ограничений индивидуальности и обыденного опыта. Это вполне резонно, поскольку под «мистическим» здесь я понимаю только первый из рассмотренных выше уровней значения этого слова, а именно переживания особого рода, обычно описываемые пережившими их людьми как расширение сознания или единение с онтологической первоосновой сущего (то есть переживания, трансцендирующие обыденный опыт и имеющие непосредственное отношение к метафизике и ее предмету). И именно о такого рода мистическом/трансперсональном опыте будет идти здесь речь. Вместе с тем я избегаю говорить об измененных состояниях сознания, поскольку данное словосочетание имплицитно и a prion предполагает некоторую ненормальность («измененность») данных переживаний относительно повседневного опыта и обыденных психических состояний. Между тем любому психологу и недогматически мыслящему психиатру понятна условность таких понятий, как норма и девиация в области психического. Мы испытываем эстетическое наслаждение, слушая музыку Баха, – это уже измененное состояние сознания (музыка вообще, пожалуй, наиболее психоделическое из всех искусств), мы выпили бокал шампанского на Новый год – вот вам снова измененное состояние. Каждая культура знает свои разрешенные и запретные способы такого «бытового» изменения сознания, это прекрасно известно всем этнологам. Кроме того, исследования философов постмодерна, и прежде всего М. Фуко, показали, как само общество конструирует свои представления о норме и патологии в области психиатрии. Вот весьма любопытный фрагмент его исследования:
Психопатология XIX в. (да и наша, наверное, тоже) полагает, будто ее место и те меры, которые она предпринимает, обусловлены соотношением с homo naturae, иными словами, с нормальным человеком, который предшествует как данность любому опыту болезни. На самом деле такой «нормальный человек» – мыслительный конструкт; если и есть у него какое-то место, то искать его следует не в пространстве природы, но внутри той системы, которая строится на отождествлении socius, человека общественного, с правовым субъектом; а следовательно, безумец признается таковым не в силу болезни, переместившей его на периферию нормы, но потому, что наша культура отвела ему место в точке пересечения общественного приговора об изоляции и юридического знания, определяющего дееспособность правовых субъектов. Только тогда, когда прочно утвердился синтез этих начал, стала возможна «позитивная» наука о душевных болезнях и все те гуманные чувства, благодаря которым безумец был поднят до уровня человеческого существа. Синтез этот – в некотором смысле априорная конкретная основа всей нашей психопатологии с ее претензией на научность.[229]