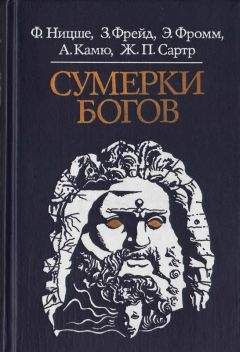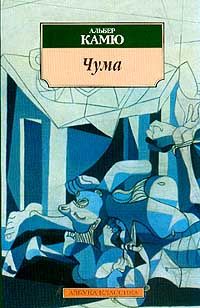Так же обстоит дело и в морали. Общим между искусством и моралью является то, что в обоих случаях мы имеем творчество и изобретение. Мы не можем решить a priori, что надо делать. Мне кажется, я достаточно показал это на примере того молодого человека, который приходил ко мне за советом и который мог взывать к любой морали, кантианской или какой-либо еще, не находя там для себя никаких указаний. Он был вынужден изобрести для себя свой собственный закон. Мы никогда не скажем, что этот человек — решит ли он остаться со своей матерью, беря за основу морали чувства, индивидуальное действие и конкретное милосердие, или решит поехать в Англию, предпочитая жертвенность, — сделал произвольный выбор. Человек создает себя сам. Он не сотворен изначально, он творит себя, выбирая мораль; а давление обстоятельств таково, что он не может не выбрать какой-нибудь определенной морали. Мы определяем человека лишь в связи с его решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в произвольности выбора.
Во-вторых, нам говорят, что мы не можем судить других. Это отчасти верно, а отчасти нет. Это верно в том смысле, что всякий раз, когда человек выбирает свою позицию и свой проект со всей искренностью и полной ясностью, каким бы ни был этот проект, ему невозможно предпочесть другой. Это верно в том смысле, что мы не верим в прогресс. Прогресс — это улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная проблема ничуть не изменилась с тех пор, когда надо было выбирать между сторонниками и противниками рабовладения во время войны между Севером и Югом, вплоть до сегодняшнего дня, когда нужно голосовать за МРП{183} или за коммунистов.
Но тем не менее судить можно, поскольку, как я уже говорил, человек выбирает, в том числе выбирает и самого себя, перед лицом других людей. Прежде всего можно судить, какой выбор основан на заблуждении, а какой на истине (это может быть не оценочное, а логическое суждение). Можно судить о человеке, если он нечестен. Если мы определили ситуацию человека как свободный выбор, без оправданий и без опоры, то всякий человек, пытающийся оправдаться своими страстями или придумывающий детерминизм, нечестен. Могут возразить: «Но почему бы ему не выбирать себя нечестно?» Я отвечу, что не собираюсь судить с моральной точки зрения, а просто определяю нечестность как заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность — это, очевидно, ложь, ибо утаивает полную свободу действия. В том же смысле можно сказать, что выбор нечестен, если заявляется, будто ему предшествуют некие предсуществующие ценности. Я противоречу сам себе, если одновременно хочу их установить и заявляю, что они меня обязывают. Если мне скажут: «А если я хочу быть нечестным?»— я отвечу: «Нет никаких оснований, чтобы вы им не были; но я заявляю, что вы именно таковы, тогда как строгая последовательность характерна лишь для честности». Кроме того, можно высказать моральное суждение. В каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, кроме самой себя, и если человек однажды признал, что, пребывая в заброшенности, сам устанавливает ценности, он может желать теперь только одного — свободы как основания всех ценностей. Это не означает, что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что действия честных людей имеют своей конечной целью поиски свободы как таковой. Человек, вступающий в коммунистический или революционный профсоюз, преследует конкретные цели. Эти цели предполагают наличие абстрактной воли к свободе. Но этой свободы желают в конкретном. Мы желаем свободы ради свободы в каждом отдельном случае. Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы других людей и что свобода других зависит от нашей свободы.
Конечно, свобода, как определение человека, не зависит от другого, но, как только начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой свободы других; я могу принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей целью также и свободу других. Следовательно, если с точки зрения полной аутентичности{184} я признал, что человек — это существо, у которого существование предшествует сущности, что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать лишь своей свободы, я одновременно признал, что я могу желать и другим только свободы. Таким образом, во имя этой воли к свободе, предполагаемой самой свободой, я могу формулировать суждение о тех, кто стремится скрыть от себя полную беспричинность своего существования и свою полную свободу. Одних, скрывающих от себя свою полную свободу с помощью духа серьезности или ссылок на детерминизм, я назову трусами. Других, пытающихся доказать, что их существование необходимо, хотя даже появление человека на Земле является случайностью, я назову сволочью. Но трусов или сволочь можно судить лишь с точки зрения строгой аутентичности. Поэтому, хотя содержание морали и меняется, определенная форма этой морали универсальна. Кант заявляет, что свобода желает самой себя и свободы других. Согласен. Но он полагает, что формальное и всеобщее достаточны для конституирования морали{185}. Мы же, напротив, думаем, что слишком отвлеченные принципы терпят крах при определении действия. Рассмотрим еще раз пример с этим учеником. Во имя чего, во имя какой великой максимы морали мог бы он, по-вашему, с полным спокойствием духа решиться покинуть мать или же остаться с ней? Об этом никак нельзя судить. Содержание всегда конкретно и, следовательно, непредсказуемо. Всегда имеет место изобретение. Важно только знать, делается ли данное изобретение во имя свободы.
Рассмотрим два конкретных примера. Вы увидите, в какой степени они согласуются друг с другом и в то же время различны. Возьмем «Мельницу на Флоссе»{186}. В этом произведении мы встречаем некую девушку по имени Мэгги Тулливер, которая является воплощением страсти и сознает это. Она влюблена в молодого человека — Стефана, который обручен с другой, ничем не примечательной девушкой. Эта Мэгги Тулливер, вместо того чтобы легкомысленно предпочесть свое собственное счастье, решает во имя человеческой солидарности пожертвовать собой и отказаться от любимого человека. Наоборот, Сансеверина в «Пармской обители»{187}, считая, что страсть составляет истинную ценность человека, заявила бы, что большая любовь стоит всех жертв, что ее нужно предпочесть банальной супружеской любви, которая соединила бы Стефана и ту дурочку, на которой он собрался жениться. Она решила бы пожертвовать последней и добиться своего счастья. И, как показывает Стендаль, ради страсти она пожертвовала бы и собой, если того требует жизнь. Здесь перед нами две прямо противоположные морали. Но я полагаю, что они равноценны, ибо в обоих случаях целью является именно свобода. Вы можете представить себе две совершенно аналогичные по своим следствиям картины. Одна девушка предпочитает покорно отказаться от любви, другая — под влиянием полового влечения — предпочитает игнорировать прежние связи мужчины, которого любит. Внешне эти два случая напоминают только что описанные. И тем не менее они весьма от них отличаются. Сансеверина по своему отношению к жизни гораздо ближе к Мэгги Тулливер, чем к такой беззаботной алчности.
Таким образом, вы видите, что второе обвинение одновременно и истинно, и ложно. Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о свободе решать.
Третье возражение сводится к следующему: «Вы получаете одной рукой то, что даете другой», то есть ваши ценности, в сущности, несерьезны, поскольку вы их сами выбираете. На это я с глубоким прискорбием отвечу, что так оно и есть; но уж если я ликвидировал бога-отца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности. Нужно принимать вещи такими, как они есть. И, кроме того, сказать, что мы изобретаем ценности, — значит утверждать лишь то, что жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы не живете своей жизнью, она ничего собой не представляет, вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл. Тем самым вы обнаруживаете, что есть возможность создать человеческое сообщество.
Меня упрекали за сам вопрос: является ли экзистенциализм гуманизмом. Мне говорили: «Ведь вы же писали в „Тошноте“{188}, что гуманисты не правы, вы надсмеялись над определенным типом гуманизма, зачем теперь к нему возвращаться?» Действительно, слово «гуманизм» имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом можно понимать теорию, которая рассматривает человека как цель и высшую ценность. Подобного рода гуманизм имеется у Кокто{189}, например, в его рассказе «В 80 часов вокруг света», где один из героев, пролетая на самолете над горами, восклицает: «Человек поразителен!» Это означает, что лично я, не принимавший участия в создании самолетов, могу воспользоваться плодами этих изобретений и что лично я — как человек — могу относить на свой счет и ответственность, и почести за действия, совершенные другими людьми. Это означало бы, что мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся действиям некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, что человек поразителен, чего они, кстати, вовсе не собираются делать, по крайней мере, насколько мне известно. Но нельзя признать, чтобы о человеке мог судить человек. Экзистенциализм освобождает его от всех суждений подобного рода. Экзистенциалист никогда не рассматривает человека как цель, так как человек всегда незавершен. И мы не обязаны думать, что есть какое-то человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ человечества приводит к замкнутому гуманизму Конта и — стоит сказать — к фашизму{190}. Такой гуманизм нам не нужен.