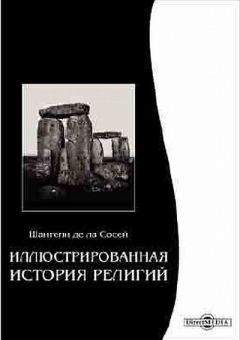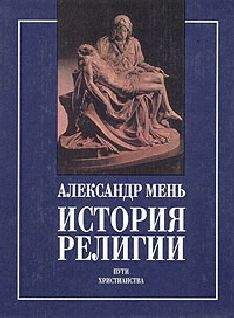Первая Женщина, по выражению Ягвиста, «мать всех живущих». Этой краткой формулой отвергаются все сомнения относительно единства человеческого рода. Здесь нет, как в индийском мифе о Пуруше, людей «второго сорта», а недвусмысленно утверждается общий корень и кровное родство всех людей. Это утверждение будет не раз повторяться Ягвистом в рассказе о потопе и о происхождении племен.
Ягвист не проповедует иллюзий. Он слишком глубоко проник в человеческую природу, чтобы не видеть ее пороков и слабостей. Его метаисторический Пролог к истории народа Божия — это печальная повесть о безумии человека, о его противлении Богу и повторяющихся актах возмездия. «Велико развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их злы во всякое время» [578]. Это умение прямо смотреть в глаза действительности сближает Бытописателя с вавилонскими мудрецами, с авторами поэм об Этане и Адапе, о господине и рабе и Гильгамеше. Тем не менее их безысходный пессимизм чужд Библии.
Ягвист строит свое повествование как теодицею, «богооправдание». Он решительно не принимает мысль о том, что зло создано Богом. Напротив, в творении все прекрасно и гармонично, хотя и не окончено. Земля обнажена и пустынна, но она ждет человека-творца, и на ней появляется Эдем как начало мирового цветения. Человек не только господин природы, окружающей его, но и господин над своей собственной природой. Его плотская, стихийно-чувственная жизнь протекает естественно и гармонично. Об этом свидетельствует нагота первых людей, которым нечего было стыдиться. Древо Жизни, от которого Человек еще не вкусил, ожидало его. И если вспомнить о многогранном значении этого символа, то можно думать, что не только вечную жизнь обещало оно, но и приобщение к высшей мудрости. У шумеров есть указание на Древо Истины, а в Притчах Соломоновых Премудрость прямо названа «древом жизни» [579].
Итак, бедственность человеческого бытия проистекает не от Божества, как в шумерском мифе, а от самого человека. Это он восстает против Творца, пытаясь утвердить свою волю вопреки Тому, Кто его создал. Пролог Священной Истории — это цепь грехопадений и преступлений человечества.
Ягвист еще не знает учения о Первородном грехе в той форме, в какой оно раскрылось в позднем иудействе и в Новом Завете [580].
В Прологе он рассматривает лишь главные аспекты богопротивления, зарождающегося в человеке; это отвержение Воли Божией, братоубийство, извращенность и гордыня богоборческой цивилизации. Библейский автор использует для их описания старинные легенды и строит Пролог из сказаний о Змее, Каине, Потопе и Башне. Он располагает эти эпизоды в хронологическом порядке. Многие богословы считают, что это лишь символический язык иконы, говорящий о вневременном. Так, Бердяев видит в Грехопадении нечто совершившееся за пределами этого бытия, а один из выдающихся новых библеистов Клаус Вестерман полагает, что вкушение от Древа Познания, братоубийство Каина, развращение перед Потопом и построение Башни — все это лишь различные способы описания одного и того же метафизического события или факта: восстания Человека против Создателя [581].
Обратимся теперь к самому Прологу.
* * *
Осененный божественным благословением, призванный быть владыкой мира. Человек, согласно Библии, получает предостережение от Ягве. Ему угрожает гибель, если он вкусит от Древа Познания добра и зла. Эта заповедь есть как бы пробный камень для испытания преданности Человека воле Творца.
Что же означает это Древо — «Эц хадаат тов вэ-ра»? Если рассматривать этот символ в аспекте нравственном, то может на первых порах создаться впечатление, что Древо Познания означает различение моральных категорий, неведомое природному миру. Но из библейского текста явствует, что Человек сотворен разумным существом и предполагать в нем неведение добра и зла, свойственное животным, нет ни малейших оснований. Есть и другой аспект нравственной интерпретации символа. Согласно Вл. Соловьеву, «сущность грехопадения состоит в том, что человек решился испытать зло на деле» [582]. А католический богослов Роланд де Во рассматривает познание добра и зла «как способность лично решать, что является добром и злом, и действовать в соответствии с этим решением» [583].
Это последнее понимание очень удачно вскрывает основной мотив непослушания человека, стремление к автономии, к независимости от Бога [584]. Но прямой смысл ягвистического сказания, хотя и подтверждает эту мысль о стремлении человека к автономии, имеет несколько иной оттенок.
Прежде всего характерное ветхозаветное словосочетание «добро и зло» («тов вэ-ра») не имело прямого нравственного смысла. Буквально «тов» означает не абстрактное «добро», а «полезное», «доброе», «доброкачественное», и, соответственно, слово «ра» означает «худое», «вредное», «опасное». А вместе они представляли собой идиоматическое выражение, означавшее «все на свете», «все важное для человека», «все стороны жизни». Эта идиома свойственна как ягвисту, так и автору «Истории Давида» [585]. Таким образом, библейское Древо можно назвать просто Древом Познания.
Но если это так, то легко может возникнуть мысль, что Бог считает необходимым для человека пребывать в темноте и невежестве, мысль, которая находится в вопиющем противоречии с царственностью человека и «наречением имен» животным.
Здесь следует обратить внимание на то, что библейское слово «даат» («познание») коренным образом отличается от соответствующего греческого слова «гнозис». «Даат» означает не теоретическое знание, а овладение, обладание, умение. Оно употребляется для обозначения супружеских отношений и владения мастерством [586].
Таким образом, перед нами попытка человека «стать как Элогим», присвоить себе высшую власть над миром и его тайнами и сделать это независимо от Бога [587].
Религиозная история является замечательной иллюстрацией к этой жажде быть самодовлеющим властелином над миром. Она составляет самую сущность Магизма, который можно определить словами Тареева как «религиозную вражду», как желание овладеть ключами могущества независимо от Бога. В этом смысл посягательства на Древо Познания. «Греховным, — говорит Тареев, — в пожелании первых людей было не само по себе стремление к божественному совершенству, к божественному содержанию своей жизни, а стремление к внешнему абсолютному совершенству» [588]. Бог — предмет зависти, Бог-соперник, Бог как нечто чуждое — вот что рождается в помраченном грехом сознании человека и толкает его на преступление заповеди. То, что этот надлом в отношении человека к Богу произошел в самом начале существования человека, подтверждает Магизм, паразитирующий на религии уже в самые ранние эпохи предыстории.
* * *
Ягвист знает, что человек пошел на преступление под воздействием враждебных сил. Но кто они, эти силы? Богословского учения о Духе Зла в ту эпоху Израиль еще не знал. Ему были известны демоны других народов, но они были составной частью пантеона, злыми богами, населявшими небо и землю, отравлявшими жизнь человека [589]. Признать их бытие означало для еврейского мудреца сделать огромную уступку язычеству. Только после окончательного утверждения единобожия израильские богословы впервые начинают говорить о Сатане [590].
Итак, Бытописатель должен был найти соответствующее обличье для враждебного начала, действие которого он ощущал в Эдемской трагедии. В древней Месопотамии существовали мифы о драконах — противниках богов, эпос о Гильгамеше говорил о змее, похитившей у богатыря траву вечной юности. Но решающим для Бытописателя могло явиться то обстоятельство, что Змей выступал обычно как атрибут ненавистного культа плодородия. Змей был фаллическим символом и изображался на многих языческих рельефах и фетишах. Мы видим его в руках чувственных богинь Сирии, Финикии, Крита. В Палестине были найдены змеевидные талисманы и модели храмов со змеями [591]. В Египте Змей тоже играл роль хтонического божества. Змеиный облик имела богиня жатвы Рененут и сам бог земли Геб. Кобры были также символом магической власти и поэтому изображались на тронах и коронах царей [592]. Культ змеи просуществовал до поздних эллинистических времен. В святилищах Змея часто содержали живых рептилий как воплощение божества [593].
Таким образом, если с одной стороны змея была эмблемой языческого культа, а с другой — внушала невольный страх и отвращение, то следует признать, что Ягвист не мог найти для враждебных сил более подходящей маски, чем маска Змея.