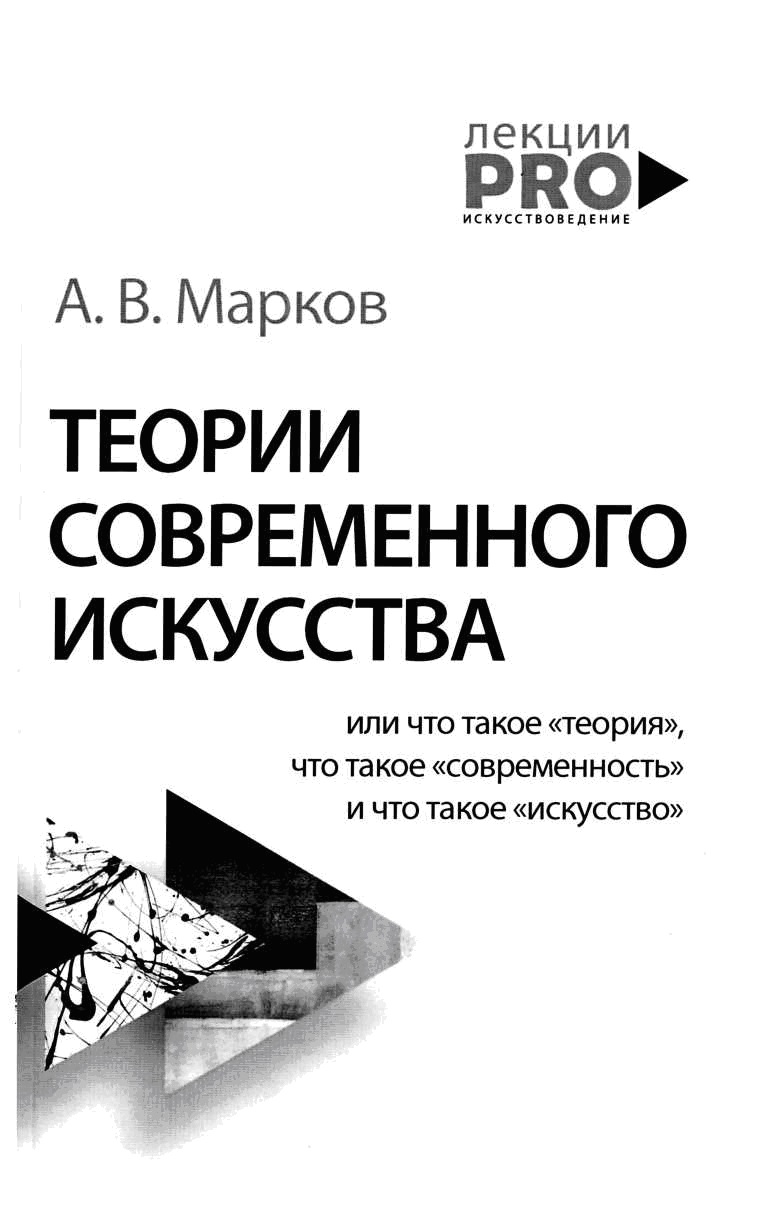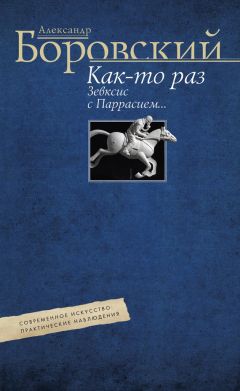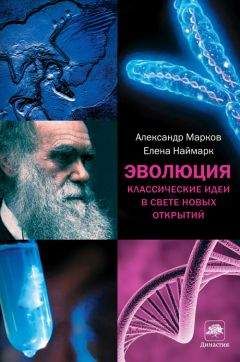class="p1">Некоторые европейские марксистские критики, прежде всего, Теодор Адорно и его анархический ученик Герберт Маркузе, утверждали, что буржуазная культура производит так называемую «десублимацию», иначе говоря, успокаивает людей, внушает им, что можно обойтись без политики. Это происходит не столько из-за субъективного стремления капиталистов дальше эксплуатировать подчиненных, сколько из-за того, что так устроен сам мир производства. В этом мире любой сильный аффект оказывается встроен в готовую систему ожиданий, превращается из радикального жеста просто в стимулирование интереса и потребления. Поэтому Маркузе противопоставлял обществу потребления «новое возвышенное», искусство, которое никогда не позволит смириться с существующим положением дел.
Но есть и другое толкование импрессионизма и постимпрессионизма. Например, основатель искусствоведческой школы в Бохуме Макс Имдаль считал, что импрессионизм не столько размывает контуры, сколько акцентирует, обозначает их размытость. Размывает контуры только фотография, становящаяся действительно буржуазным искусством («средним искусством», как назвал ее Пьер Бурдьё). Поэтому импрессионизм, по мнению Имдаля, сформировал дух американского искусства и саму современную Америку как мир восторженной деловитости, знания границ и, главное, производства некоторого политического репертуара, который могут потом употребить в других странах, развивая политические институты. Имдаль, как мы видим, полагал, что в информационном обществе можно будет победить многие формы угнетения.
Импрессионисты, согласно Имдалю, создали как бы репертуарное отношение к действительности, в отличие от прежних художников, закреплявших привилегии: скажем, аристократический взгляд на вещь. В этом смысле для Имдаля не салонная живопись вообще, а именно импрессионисты создали новую буржуазность не просто как образ жизни и образ чувства, но как место гибкого репертуара новых медиа и новых чувств. Имдаль усматривал продолжателей импрессионизма в авторах движущихся инсталляций, например, механизмов, постоянно разглаживающих цветной песок, и на этой основе создавал музей в Бохуме.
К формализму, структурализму и постструктурализму «октоберисты» относятся довольно критически, примером чему может служить статья Хэла Фостера «Хвала актуальности», русский перевод которой опубликован в «Художественном журнале». Фостер критикует реэнак- тменты, возобновление старых выставочных проектов «для камеры», как дань прошлому, за некоторую случай ность выбора (почему возобновлен именно этот проект, а не тот), а значит, и за незавершенность исполнения. Фостер замечает, что структуралисты и теоретики перформатива любили формальную незавершенность, но только из полемических целей — им нужно было опровергнуть романтическую идею о художнике как готовом источнике всех значений произведения и идею школьноуниверситетской критики, что замкнутость произведения и делает его образцовым и поучительным. Но сейчас эти предположения, говорит Фостер, давно никого не привлекают, поэтому незавершенность и повторение повторяемого лишь рассеет внимание публики. А тогда точно искусство перестанет познавать окружающую действительность и служить целям социальной критики.
Но теоретический анализ в книге «Искусство с 1900 года» всегда включает в себя некоторые моменты структурализма и постструктурализма, например, учение об оппозициях (противопоставлениях) разных уровней. Откроем страницу 444 (красивое число), где разбирается творчество Джаспера Джонса. Автор параграфа говорит, что творчество Джонса соединило противоположности: безличность, близкую плакату как абстрактной передаче идеи, и жестовость, близкая плакату как жесту личного общения. Эти противоположности идут в одном ряду с другими: картины Джонса автореферентны (показывают, как наносится краска на холст) и аллюзивны (указывают на вполне конкретные реалии жизни США); они являются картинами в старом смысле (натянутый холст) и в новом (нет рамы в классическом смысле, наоборот, скорее картина выступает как рельефный объект).
Что примиряет эти противоположности? Выбранная Джонсом техника энкаустики, восковых красок, которые сохраняют все следы, каждое движение кисти, но при этом сразу музеифицируют изображение, делают мертвым и удерживают в таком качестве. Поэтому живопись Джонса — это уже не живопись, а процессуальное искусство, которое и может вобрать в себя элементы коллажа, скажем, газеты, на которую нанесена энкаустика. Согласно «октоберистам», перед нами следующий по радикальности шаг после сюрреализма: если у Магритта просто была изображена трубка и отрицалось, что это трубка, но техника оставалась обычной живописью маслом, то здесь сама техника отказывается от привычек изображения, от привычных просвечивающих и готовых к употреблению слоев масла, выступает как радикальный жест отрицания потребительского отношения к материи и к готовым образам.
Джонса тогда надо сблизить скорее с Поллоком и с Дюшаном: от Поллока ему досталась спонтанность, а от Дюшана — готовность особым образом выстраивать историю реди-мейда, готовой вещи. Но вместе все эти начала работают как социальная критика плаката как рекламы, когда безличные коммерческие схемы или способы изображения хотят взять власть над всем искусством как производством. Но «октоберисты» не ограничиваются такой интерпретацией отдельных художников, но стремятся переопределить сам статус contemporary art.
Так, в 1980 году в журнале вышло эссе Крейга Оуэнса «Аллегорический импульс: к теории постмодернизма», в котором разводятся modern art и contemporary art. Оуэнс ссылается в своих работах на разные источники, например, на лекцию Мишеля Фуко «Живопись Мане» (1971, рус. пер. 2011), в которой философ доказал, что картины этого живописца не просто уместны в музеях, но что они создавались для музеев. Эти картины складируют впечатления от окружающего мира как неприкосновенный запас человечества. Сами краски, как бабочки, должны лечь на холст и как будто попасть на иглу нашего внимания, чтобы заиграть красками для нас в музейном пространстве, как бабочки в кабинете биологии вдохновляют на серьезные научные размышления.
Можно вспомнить, кстати, сказку Макса Нордау, того самого, кто написал огромную книгу-памфлет против символистов и декадентов «Вырождение» (1892, рус. пер. 1894), где объявлял их просто психически неустойчивыми личностями, галлюцинирующими и предлагающими публике результаты своих галлюцинаций. Нордау написал сказку, как в Бразилии биологи поймали бабочку, и влюбленный в нее золотой жук отправился за ней, спрятавшись в клетке с попугаем. Он как «американец» произвел фурор в Париже, и местные насекомые показали ему бабочку в биологическом музее. Пока служители музея пытались поймать редкого золотого жука, бабочка ожила. Оказалось, что ее приклеили к стенду, забыв обработать эфиром, подумав, что раз она ни жива ни мертва, значит, ее уже кто-то обработал: как это часто бывает в истории медицины, наблюдение иногда на время оттесняет на второй план причинно-следственные связи, но только на время. Завершилось всё счастливым браком, но нам интересно, что и жук, и бабочка для Нордау как бы изначально предназначены для музея, и если они спасаются из него и возвращаются на родину, то только благодаря безудержной эмоциональности и витальности, которой, по мнению этого писателя, не хватает чахлым рефлективным декадентам. Получается, что духом эпохи и было создавать картины для музея, чтобы они оживали мысленно, но мы верили и что они мертвы, и что они живы, не обрабатывая лишний раз эфиром аналитического внимания.
А современное искусство, которое Оуэнс