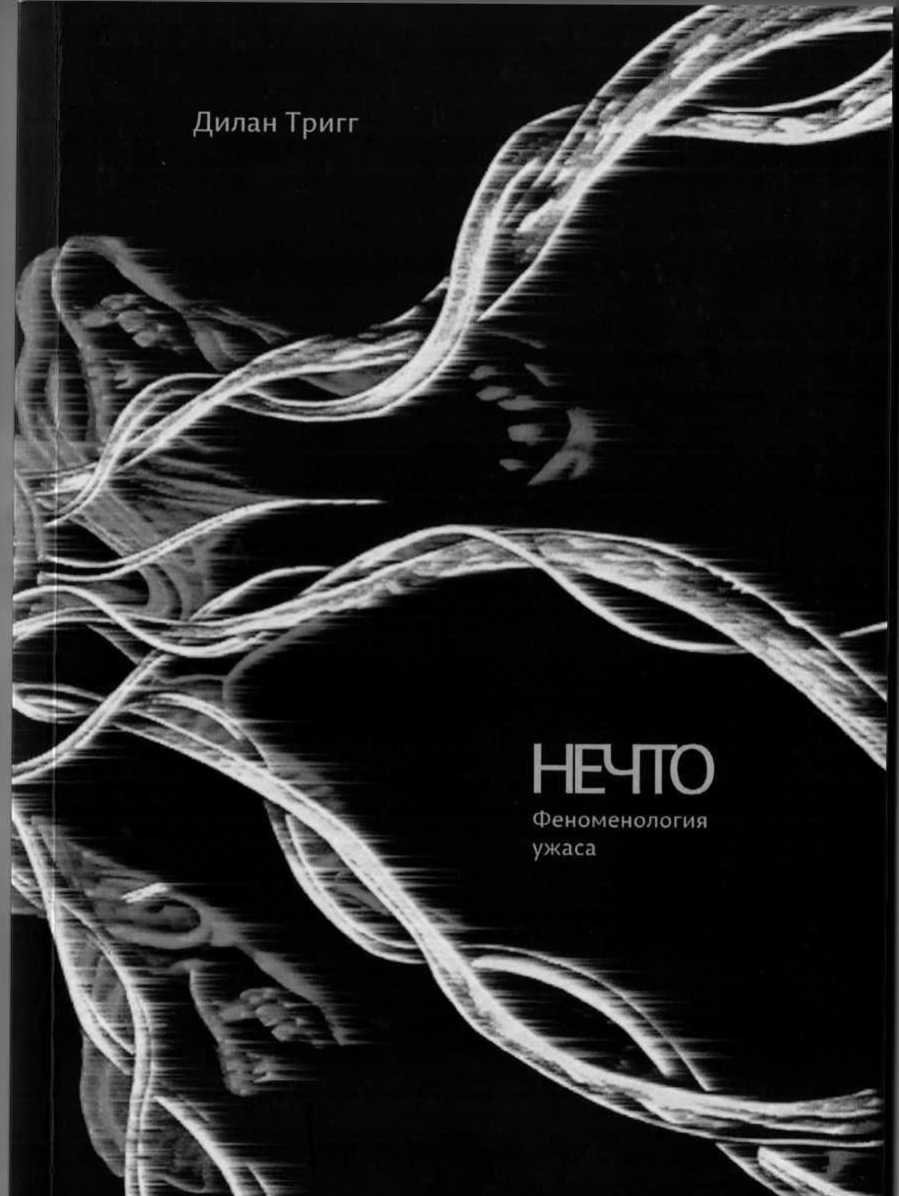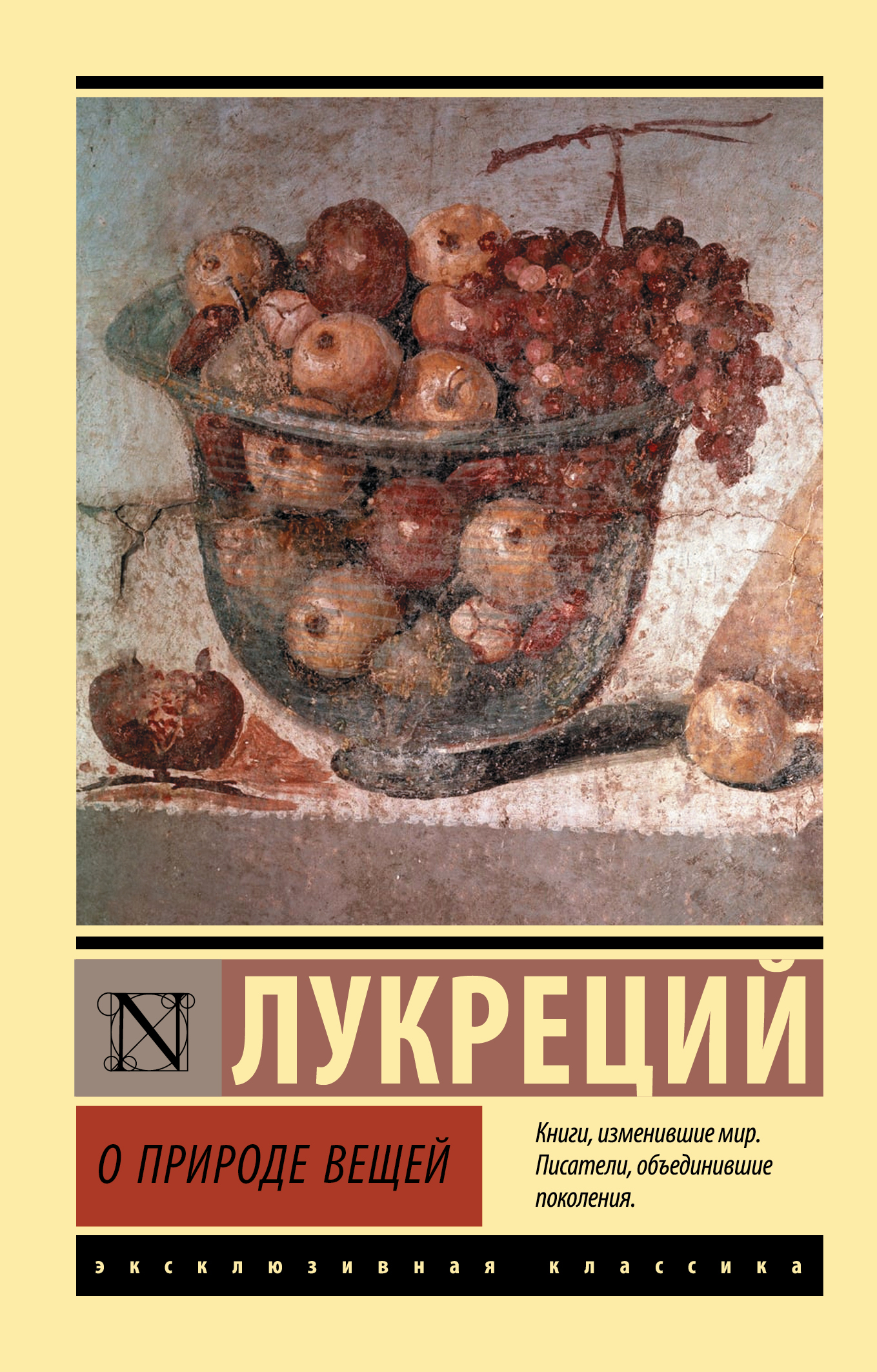того как эта бесформенная жизнь скрывает себя, она обнаруживается в целом ряде различных симптоматических проявлений. У ужаса есть лицо. Сначала он предстает анонимным силовым полем, затем органом восприятия и, наконец, местом самой реальности. Эти три аспекта ужаса тела, коренящиеся в сырой инаковости самой жизни, определяют темы последующих глав.
Это бывает по ночам, особенно когда на небе стоит выпуклая и ущербная луна. Тогда я вижу это нечто.
Г. Ф. Лавкрафт. Дагон
Жизнь, — оптимистично пишет Гастон Башляр в «Поэтике пространства», — начинается хорошо, с самого начала она укрыта, защищена и согрета во чреве дома» (Башляр 2004, 29). Для критика замечания Башляра — символ неудач феноменологического мышления, невозможности помыслить нечто за пределами антропоморфизированного космоса, в котором бесконечная пустота тёмного пространства оборачивается теплой близостью извечной материнской груди. У критика есть причины считать именно так. В конце концов, трудно не согласиться, что феноменология по большей части не может покинуть человеческую сферу и подчеркивает вместо этого обоснованность проживаемого опыта как гаранта истины.
Раз за разом мы видим тенденцию к уравниванию «бытия» и «мира» в феноменологии. Действительно, акцент на неустранимости человеческого отношения к миру очевиден уже в формулировке, которую феноменология продвигает в качестве своей основополагающей посылки: бытие-в-мире. Столь безобидной фразой, унаследованной от Брентано через Хайдеггера, феноменология объясняет свое представление субъекта, как конституированного миром, а мира, как конституированного субъектом. Феноменология не принадлежит ни реализму, ни идеализму; но соединяет оба подхода в концепте перцептуальной интенциональности, согласно которому мы, живые субъекты, всегда находимся во взаимоотношении с миром.
Согласно Хайдеггеру, кружение между миром и бытием лучше всего схватывается в идее настроения. Хайдеггер полагает, что настроение — это дорефлективный способ придания миру особенной опытной значимости. В этом смысле настроение структурирует наше отношение с миром: оно настраивает нас на мир; действует герменевтически, чтобы сделать мир значимым для живого субъекта. Мы всегда уже (фраза, преследующая феноменологию) настроены, ибо наше взаимоотношение с миром нагружено значением и, в сущности, никогда не бывает нейтральным. Наша неспособность быть вне настроения значит, что мир не может иметь феноменального статуса без заранее заготовленного специфического толкования.
Эта взаимозависимая структура бытия и мира вновь возникает в работах Мерло-Понти. На сей раз структуру бытия-в-мире обеспечивает не герменевтика настроения, а герменевтика тела. Роль тела у Мерло-Понти, как и настроения у Хайдеггера, — ввести нас в значимые и интенциональные отношения с миром. Помимо того, что тела вмещают наше Я, они, согласно Мерло-Понти, являются органами выражения нашей привязанности к миру.
Тело и мир — равнозначные и выражающие друг друга термины. Мир по Мерло-Понти — отнюдь не декорация для наших действий. Скорее, мир определяется корпореально, посредством своего обнаружения через тело. Это значит, что тело и мир соединяются в симбиотической или диалогической структуре, соконституируя друг друга. В свою очередь, это созависимое отношение бытия и мира отражено в наших отношениях с другими. И вновь тело создает основу для структурных и тематических взаимоотношений с Другим. Наш опыт других всегда опосредован доличностной телесной интенциональностью, обеспечивающей герменевтически структурированный опыт.
Настроение и тело — два способа соединить субъективность с миром, наладить их неразрывную и дотематическую связь. Аналогичные структуры обнаруживаются и в других философских системах, в которых наш доступ к миру всегда обусловлен центральным положением человеческого субъекта, будь то лингвистический идеализм Лакана и Деррида или трансцендентальный идеализм Канта и Шопенгауэра. В каждом случае есть по меньшей мере два решающих следствия, имеющих критическую ценность для постфеноменологических мыслителей.
Первое следствие — эпистемологическое. Очевидный предел феноменологии в эпистемологическом отношении заключается в том, что она не способна совладать с проблемой вещей в себе. Она ограничивается доступом к миру в рамках узкой перспективы человеческого опыта, что подразумевает невозможность мышления выйти за пределы своих детерминаций. Говоря словами Мейясу, «сравнить мир „в себе*' с миром „для нас“ и распознать таким образом, что является производной нашего отношения к миру, а что принадлежит только миру» (Мейясу 2015, 9). Действительно, именно в полемических трудах Мейясу феноменология сталкивается со своей наиболее четкой и требовательной критикой.
Феноменология, согласно Мейясу, отлично иллюстрирует то, что он называет «корреляционизмом». Как Мейясу полагает, корреляционизм — это идея, «согласно которой мы можем иметь доступ только к корреляции между мышлением и бытием, но никогда к чему-то одному из них по отдельности» (11). Истоки этой мысли обнаруживаются еще у Канта и на первый взгляд кажется, что феноменология является образцовым обвиняемым в корреляционизме. В конце концов, идея, что мы можем говорить от имени вещей вне нашего опыта, посредством которого они явлены «для нас», — род феноменологического противоречия. Феноменология — философия реляционности. Она привязывает нас к миру и притом напоминает: субъективность — мирская, а мир — субъективен. Позволим себе небольшое преувеличение: ничто не заставит феноменологию лишиться чувств и даровать реальность вещам, независимым от того как они мыслятся или переживаются. Вверяя себя взаимозависимому союзу бытия и мира, феноменология рискует оказаться в тупике, выход из которого она оценивает как еретическую затею.
Согласно критике Мейясу, проблемой для корреляциониста выступает не только то, что мир невозможно помыслить без субъекта, но также и то, что сам субъект непостижим без мира. Мейясу обозначает бремя реляционности феноменологии аргументом «корреляционистской двухходовки» и выделяет элемент «со-», или «ко-» [корреляции], как «подлинную „химическую формулу“», характерную для современной философии (5-6; 12). По Мейясу, внимание, которое «со-» привлекает к соконститутивному отношению между субъектом и миром, уводит философию от сущностной проблемы в эпистемологический тупик, в котором вместо вопроса «„какой субстрат правильный?“ звучит лишь „какой коррелят правильный?“» (13).
Для модерной философии понятие внешнего стало удваивающим зеркалом, извечно грозящим клаустрофобной тревогой. Оно, как пишет Мейясу, «оказывается „внешним заточения“, внешним, в котором есть смысл чувствовать себя запертым, потому, что подобное внешнее, по правде говоря, полностью относительно, потому что именно и есть относительное, относительно нас самих» (14). Такое видение нарциссического внешнего, в котором даже величайшая экстериорность лишь изнанка знакомой нам интериорности, знаменует неудачу модерной философии. В рамках очерченных границ в этой истории фундаментальным образом теряется то, что Мейясу называет «великим внешним» (le grand dehors). Под этим Мейясу имеет в виду:
Внешнего, не опосредованного отношением к нам, данного как безразличное к собственной данности, существующего в себе, безразлично, мыслим мы его или нет; такое Внешнее, которое мысль могла бы постигать с оправданным чувством пребывания на чужой территории — в совершенно чуждом ей месте (15).
Пусть