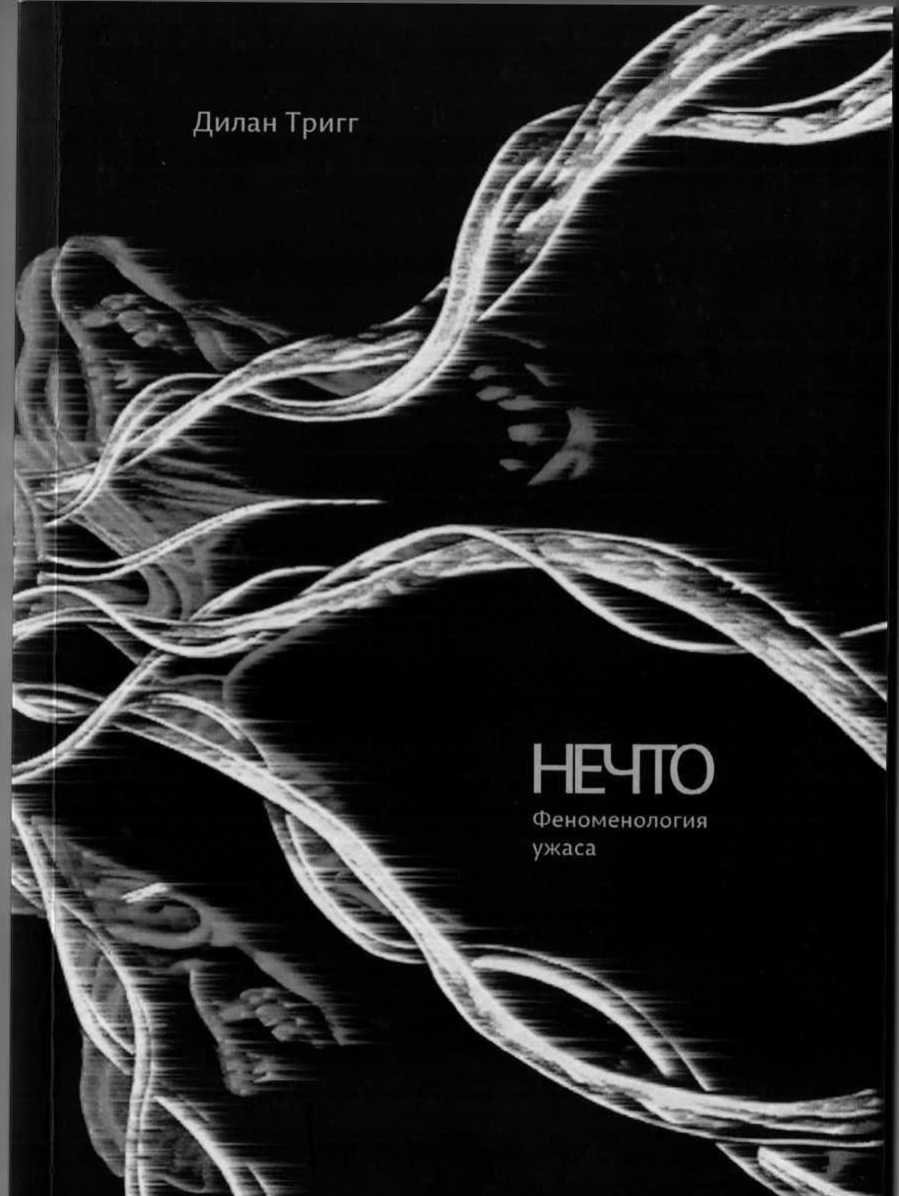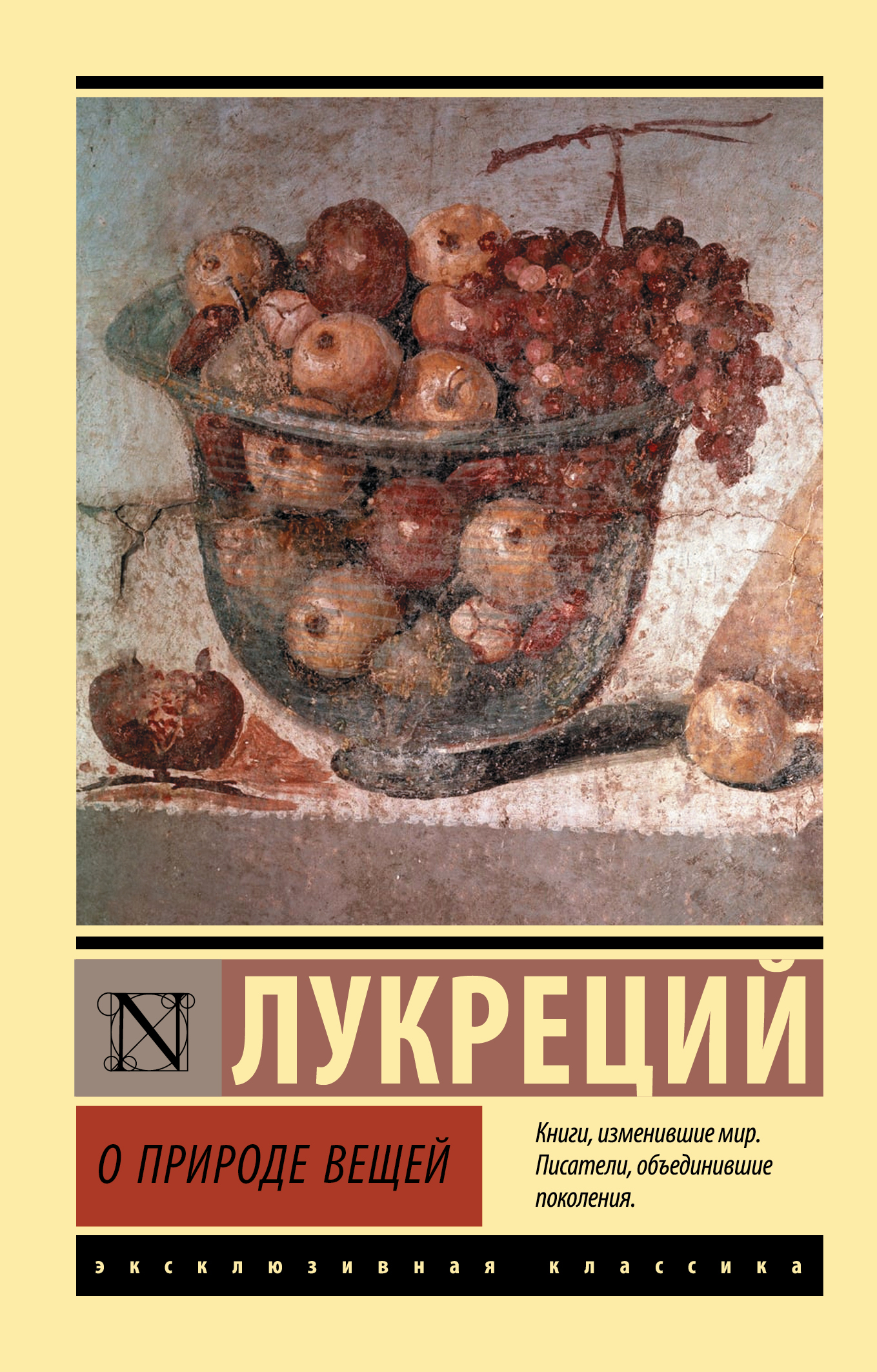изглаживание: словом, становится
не/человеческим.
Утверждение Левинаса «не я бодрствую; „оно“ бодрствует» схватывает double bind между идентичностью и неидентичностью, сходящимися в одном теле. Постороннее присутствие поселяется в теле страдающего бессонницей, используя материальность как холст, на котором артикулируется метафизика анонимности. Проживаемое тело со всеми его желаниями и тревогами отходит на второй план. Телом страдающего бессонницей овладевает «густота пустоты», обнаруживая, что это тело обладает реальностью, абсолютно независимой от опыта бытия конечным субъектом (Левинас 2000а, 39). В опыте не/человеческого реальность материальности продолжает существовать, несмотря на очевидное отмирание субъективности. Именно потому, что вещи возвращаются в ужасе темноты, их запредельная субъекту реальность выходит на первый план. Левинас недвусмысленно утверждает, что удушаемый древней и анонимной силой субъект соединяется с ничто.
Описанный таким образом ужас — это опыт инверсии, опыт нарушения порядков интериорного и экстериорного до такой степени, пока не останется ничего, кроме материальности, ставшей призрачной / призрачности, ставшей материальной. Левинас пишет: «Привидение, призрак представляют собой саму стихию ужаса» (37). Столь тесное отношение между ужасом и призрачностью может быть понято в контексте странного реализма. То, чему удается пережить собственное корпореальное умирание, трансформируется в некую сущность, являющуюся и самой собой, и отличной от себя, и человеческой, и не/человеческой в то же самое время.
Представленное таким образом человеческое тело обретает иную сторону, которая фундаментальным образом независима от выражения и восприятия. Это уже не тело субъекта, не то тело, к которому можно подступиться с помощью феноменологии и уж тем более — интроспективно. Это тело по ту сторону кажимостей, это «сверхъестественная реальность», которая противостоит руинам своего собственного отрицания. В этой бездне тело как призрак возвращается из запредельного, увлекая за собой «анонимное нетленное существование» (37). Это сумерки призрака, ночь другой метафизики. Выхода нет, иначе как в иллюзии отступающего при свете дня il y a. Левинас преподает нам урок: даже в смерти мертвые остаются составляющими ужаса ночи, существами, которые восстают из отсутствия жизни, чтобы занять анонимное существование, сохраняющееся в избытке бытия.
* * *
Одним из лучших кинематографических воплощений анонимной материальности, возвращающейся из могилы, остается меланхолия les lieux de memoire [мест памяти — фр.] в «Солярисе» (1972) Тарковс кого. Одна сцена будет неотступно преследовать вас именно потому, что в ней сосредоточено наше понимание смерти, анонимности и материальности. После самоубийства жены психолог Крис Кельвин покидает Землю, чтобы расследовать цепь странных событий на комической станции, вращающейся вокруг океанической планеты Солярис. На станции царит беспорядок. Все астронавты, за исключением одного, совершившего самоубийство, живы, но страдают от различного рода расстройств и недугов. Странности следуют одна за другой, и в какой-то момент на станции появляется жена Кельвина, Хари. Она изо всех сил пытается что-то вспомнить о себе или просто узнать себя, но памяти у нее нет. Столкнувшись с призраком жены, Кельвин решает избавиться как от воспоминаний о ней, так и от ее материальности: он завлекает Хари в капсулу и отправляет ее в открытый космос. Вечером того же самого дня, когда он предал ее черноте космоса, она снова появляется в его каюте, во второй раз вернувшись из мира мертвых. На этот раз Кельвин понимает, что ее присутствие — это воссозданная Солярисом производная его собственной памяти, своего рода проекция пустоты, и пытается инкорпорировать призрак своей жены в настоящее. Со временем Хари формирует идентичность, независимую от представлений Кельвина, и в результате не только осознает собственное прошлое, но и неоднозначность своего человеческого статуса. Далее следует ключевая сцена: в ужасе перед открывшимся ей знанием Хари выпивает жидкий кислород, пытаясь снова свести счеты с жизнью.
Она лежит на полу космической станции. Ее лицо неподвижно, на носу и губах засохли пятна крови. Кельвин осматривает труп, и один из ученых предупреждает его: «Чем больше она с тобой, тем больше очеловечивается». Заразившись этой латентной человечностью, Хари не способна умереть. И в то же время жить она может только как фрагмент телесной памяти в непосредственной близости от Соляриса. Ученый снова просит Кельвина стереть ее память: «Она явится. И всякий раз будет являться». И тут спазматическое движение ее шеи возвещает очередное возвращение Хари из мертвых. Вечное возвращение анонимной материальности связано с разладом между человеческим и нечеловеческим. Образ лежащей на полу Хари, образ чистого отвращения, — это кошмар, отторгнутый перспективой человеческого нарциссизма и сведенный таким образом к безличности левинасовского il y a.
Встреча с этой анонимной материей сулит еще больший ужас. Сразу же после воскрешения фрагмент человеческой [ипостаси] Хари продолжает существовать в ее телесной оболочке. Не сумев снова покончить с собой, она в смятении шепчет: «Это — я?.. Нет... Это не я... Не Хари...» Это сцена первичного страха: субъект видит себя вернувшимся из мира мертвых и населяющим безымянное тело. На уровне сырой материи тело длит свое существование слепо и бесконечно. Но эта травма не отрицает человеческое начало полностью. Что-то остается от субъекта, пусть и в растворенном виде. Столкновение человеческого и нечеловеческого, населяющих одно и то же тело и сворачивающихся друг в друга, — это именно то, что мы определили как не/человеческое тело. Субъект, если вспомнить Левинаса, обезличивается под воздействием чуждости материи. Остается лишь материализованное отвращение. О нем говорит Хари, спрашивая Кельвина: «Я тебе очень противна?» Такая степень омерзения возникает не просто из-за столкновения с телом во всей его тошнотворной фактичности. Скорее, ужас указывает на структуру самой материи, которая в своем бесформенном истоке поглощает любую субъективность и растворяет ее в своей тени.
Феноменология, о чем свидетельствует предшествующее изложение, сталкивается с двумя четко определенными вызовами. Как было отмечено выше, это проблемы эпистемологического и этического толка. Обе сужают рамки феноменологии и очерчивают проблемное поле, которое она не в силах покинуть. В эпистемологическом отношении феноменология сохраняет приверженность воззрениям, согласно которым мир обретает форму посредством человечности тела. В этической перспективе феноменология сталкивается с проблемой забвения инаковости тела, что является результатом чрезмерной приверженности требованиям телесного единства.
Объединяя две эти проблемы, феноменология заходит в тупик, крайне точно описанный Мейясу. Вопрос, который мы поставили в этой главе, касается того, может ли феноменология мыслить вне собственной традиции и возможно ли вернуться к такой феноменологии, которая могла бы быть восприимчивой к инаковости. Позволяет ли Левинас ответить на этот вопрос? Давайте рассмотрим доказательства.
Действие происходит в двух сферах: эпистемологической и этической. Каждая вписана в корреляционистский круг, по выражению Мейясу. Начнем с этики. Субъект у раннего Левинаса сопротивляется определению через единство проживаемого опыта. И пусть в более поздних работах