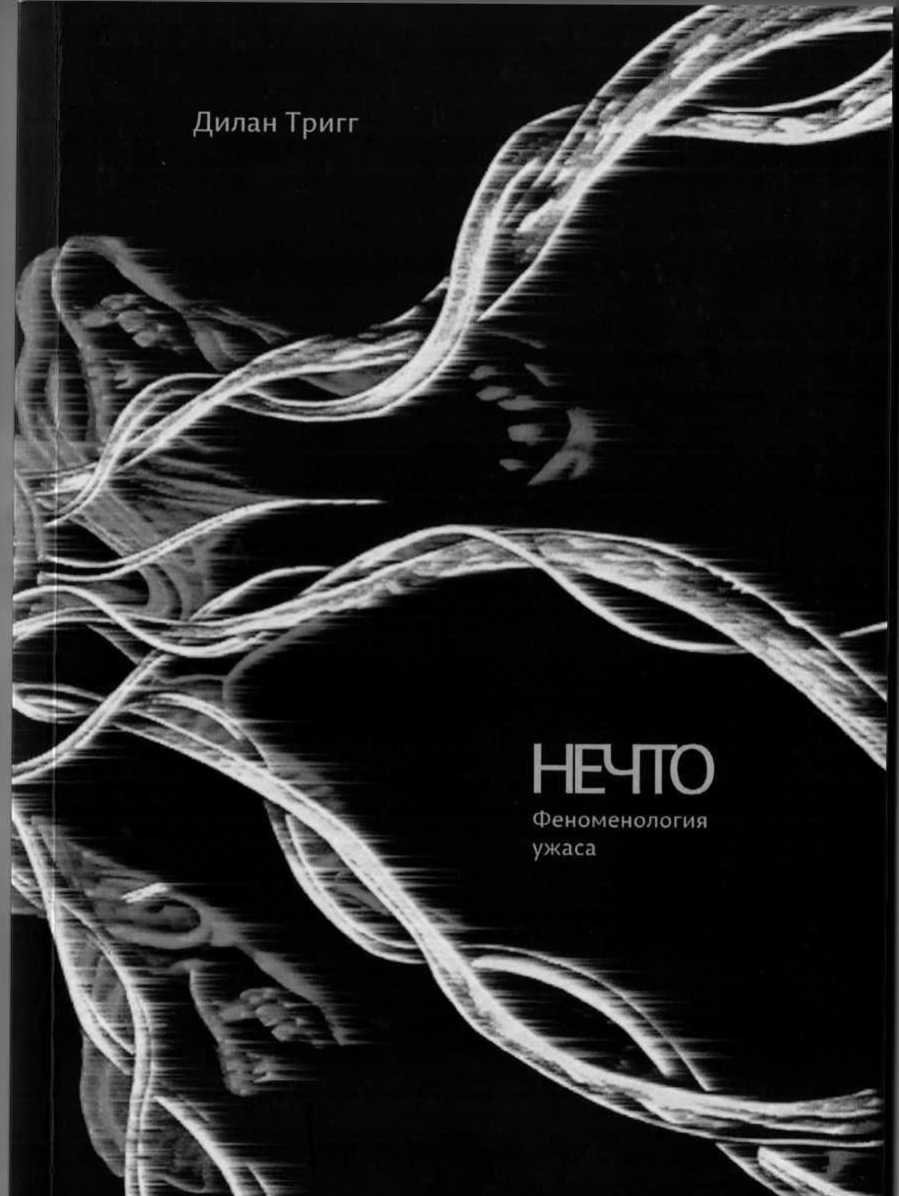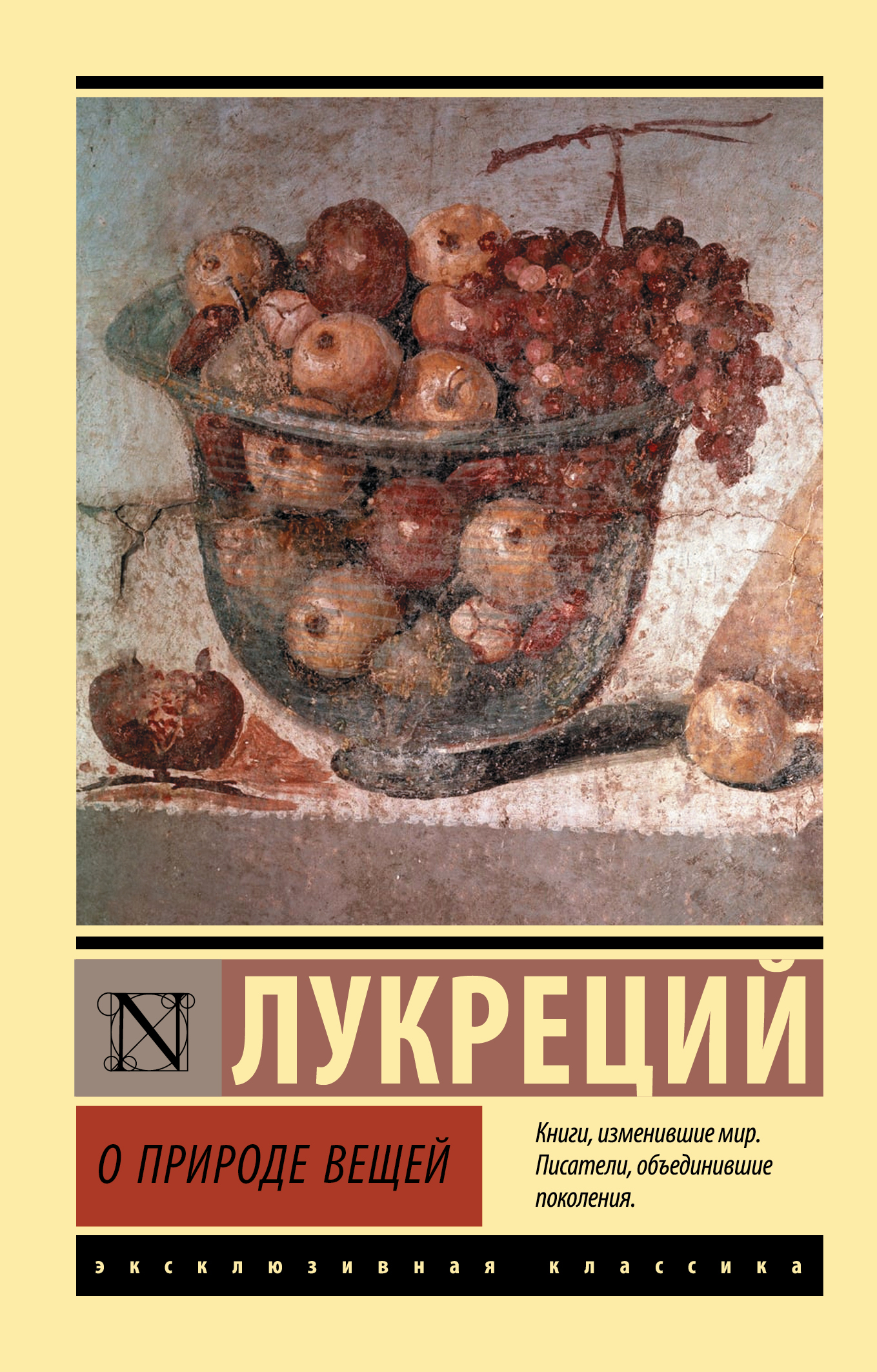Если у Лавкрафта прошлое играет важную роль, то именно потому, что оно сохраняет связь с живым настоящим, вместо того, чтобы быть отрицаемым.
В ранних фильмах Дэвида Кроненберга мы приближаемся к архетипической формулировке телесного ужаса в терминах картезианского кошмара индивидуальной идентичности. Такие фильмы, как «Выводок» (The Brood, 1979), «Мертвая зона» (The Dead Zone, 1983), «Муха» (The Fly, 1986) и в некоторой степени даже «Оправданная жестокость» (A History of Violence, 2005), касаются случайного вторжения в тело со стороны агентности, содержащейся в истории субъекта. Так, в «Мертвой Зоне» несчастный случай приводит к тому, что тело главного героя приобретает психические способности, что в конечном итоге приводит героя не только к отчуждению от себя и других, но и к собственной смерти. Точно так же, в случае «Мухи», драма тела как вместилища экзистенциальной чуждости приобретает висцеральное значение, что ставит на первый план тело, имеющее собственную материальную жизнь, и приводит далее к отрицанию опыта тела как своего собственного. Корпус работ Кроненберга, сложность которых заслуживает отдельного исследования, является блестящим свидетельством первичности тела в структуре субъекта. Более того, эти фильмы приобретают драматизм, позволяющий им выйти за пределы «шокового хоррора» благодаря тому, что временность вторгающегося тела принадлежит настоящему. Как и в фильме Жоржа Франжю «Глаза без лица» (Les yeux sans visage, 1960), ужас тела в работе Кроненберга — это, прежде всего, ужас перед безликой идентичностью, такой идентичностью, которая похищена тем, что Кроненберг называет «предательством плоти» (Cronenberg 1997, 80). Эта динамика плоти, предающей субъекта, становится особенно очевидной в «Мухе».
Простота сюжета этого хорошо известного фильма может легко помешать оценить всю сложность его содержания. Сет Брандл, эксцентричный ученый, страдающий от укачивания, создает систему телепортации для перемещения неживой материи из одной точки пространства в другую. На вечеринке Брандл встречает журналистку Веронику Квайф, которая затем становится его девушкой. Несмотря на успехи Брандла в телепортации неодушевленной материи, его исследованию недостает успешной телепортации живой материи. Пока что все попытки переместить бабуина из одного места в другое заканчивались провалом: животное появляется в другой телепортационной капсуле в состоянии распада и с вывалившимися на пол внутренностями. Согласно Брандлу в процессе перемещения теряется способность «сходить с ума от плоти». Успешно перепрограммировав модуль телепортации, Брандл подвергает этой молекулярной деконструкции свое собственное тело. Незаметно для него в телепод попадает маленькая комнатная муха, что приводит к слиянию их генотипов. Результат: от первоначального скачка возможностей и сверхчеловеческих способностей после телепортации, — что сравнивается с фильтрацией кофе и подтверждается дикой потребностью Брандла в сахаре, — до медленного и постепенного распада человеческой плоти. Начавшееся с роста нескольких толстых волосков на спине, превращение Брандла в нечто, теперь иронично называемое «Брандлфлаем», происходит в несколько этапов: пигментирование кожи, подтяжка мышц, выпадение ногтей, волос и зубов, разложение плоти до достижения тотальной трансформации ее физической структуры. В конце концов, эта деформация человеческого тела порождает гибридный организм, составленный из фрагментов и человека, и мухи.
Параллельно с этой корпореальной драмой отношения Брандла и Вероники также претерпевают распад. Все время сочувствуя переживающему распад Брандлу, она тем не менее становится все более отчужденной, поскольку он сам не проявляет сожаления. Вскоре отчуждение превращается в ужас, когда Вероника обнаруживает, что беременна ребенком Брандла. Она боится, что ребенок будет сильно деформирован. Эта обреченная история любви приходит к трагическому финалу, когда Брандлфлай с помощью телеподов пытается соединиться с Вероникой и ее нерожденным ребенком в единую сущность, чтобы создать тем самым «полную семью». Пребывая в ужасе от самой мысли об этом, Вероника начинает сопротивляться Брандлфлаю и отрывает ему челюсть. Разорванная плоть приводит к апофеозу превращения Брандла в Брандлфлая — в отвратительное безгласное существо, абсолютно лишенное всех человеческих качеств, кроме выражения отчаяния в его тёмных глазах. Освободившись от монстра, Вероника наблюдает за тем, как Брандлфлай делает последний заключительный прыжок в телепод. На другой конец он прибывает смесью телепода и плоти и теперь представляет собой ползущие по полу аморфные останки. Все надежды рухнули. Вероника неохотно помогает Брандлфлаю совершить самоубийство. Выстрел в голову завершает фильм.
Во время этой метаморфозы и Брандл, и Брандлфлай со-населяют одно и то же мутирующее тело, где каждая сущность стремится к независимости от другой, но продолжает от нее зависеть из-за их взаимосвязанного единства. При этом открывается ряд парадоксов. Брандл не вытесняется Бранделфлаем, но продолжает присутствовать все это время. Только сейчас это — квазиприсутствие, схваченное в перспективе неуверенности в себе, меланхолии и трансформации. Переплетение этого двойственного столкновения материальности и идентичности есть разумность тела. Во тьме самости идентичность Брандла и Брандлфлая рассматривается, таким образом, через телеологию тела, в его здоровых и больных проявлениях.
Сложность отношения между Брандлом и Брандлфлаем основана на требовании Кроненберга, чтобы мы принимали во внимание то, как болезнь воспринимает человеческого субъекта, а не то, как человеческий субъект патологизирует болезнь. Как говорит Брандл, когда обнаруживает свою новую способность лазить по стенам, «я, кажется, поражен болезнью, преследующей некую цель, не так ли?». Учитывая приверженность Кроненберга независимой идентичности тела, возникает вопрос: где в этой целенаправленной болезни находится «Я»? Этот поворот в восприятии заставляет не только зрителя, но и Брандла стать вуайеристом процесса этой трансформации.
Ключевой здесь является сцена, когда Брандл смотрит в зеркало ванной комнаты и видит, как в отражении на него смотрит будущий Брандлфлай. Когда у Брандла начинают отпадать ногти, он реагирует на это не столько с ужасом, сколько с тревогой. Эта тревога неразрывно связана с открытием Брандлом своего тела как физической вещи в мире, вооруженной способностью мутировать и адаптироваться по своей собственной воле. Как пишет, удерживая эту сцену в уме, Кроненберг: «Сколько раз вы слышали истории о ком-то, кто просто обнаруживает шишку, или пятно, или прыщ, или что-то еще, и это оказывается началом конца?» (Cronenberg, 2006, 87). С точки зрения феноменологии то, что, кажется, раскрывается в этой телесной тревоге, — это подчинение проживаемого тела физическому телу; это структурное различие, первоначально сделанное Гуссерлем, и теперь конкретизированное в своей радикальной корпореальности Кроненбергом.
Став радикально тематизированным, Брандл буквально видит отражение своего тела как предшествующее его идентичности. Это предшествование не зависит от брандловского опыта себя и в некоторой степени противоречит ему. Поэтому он спрашивает себя: «Что со мной происходит? Я умираю?» В каком-то смысле ответ очевиден — «да». Но смерть двойственна. В то время как эмпирическое тело Брандла начинает отделять себя от мира, «Я» Брандла остается на месте. Что-то умирает, и эта смерть схвачена в тревожном выражении лица Брандла, разглядывающего свое тело так,