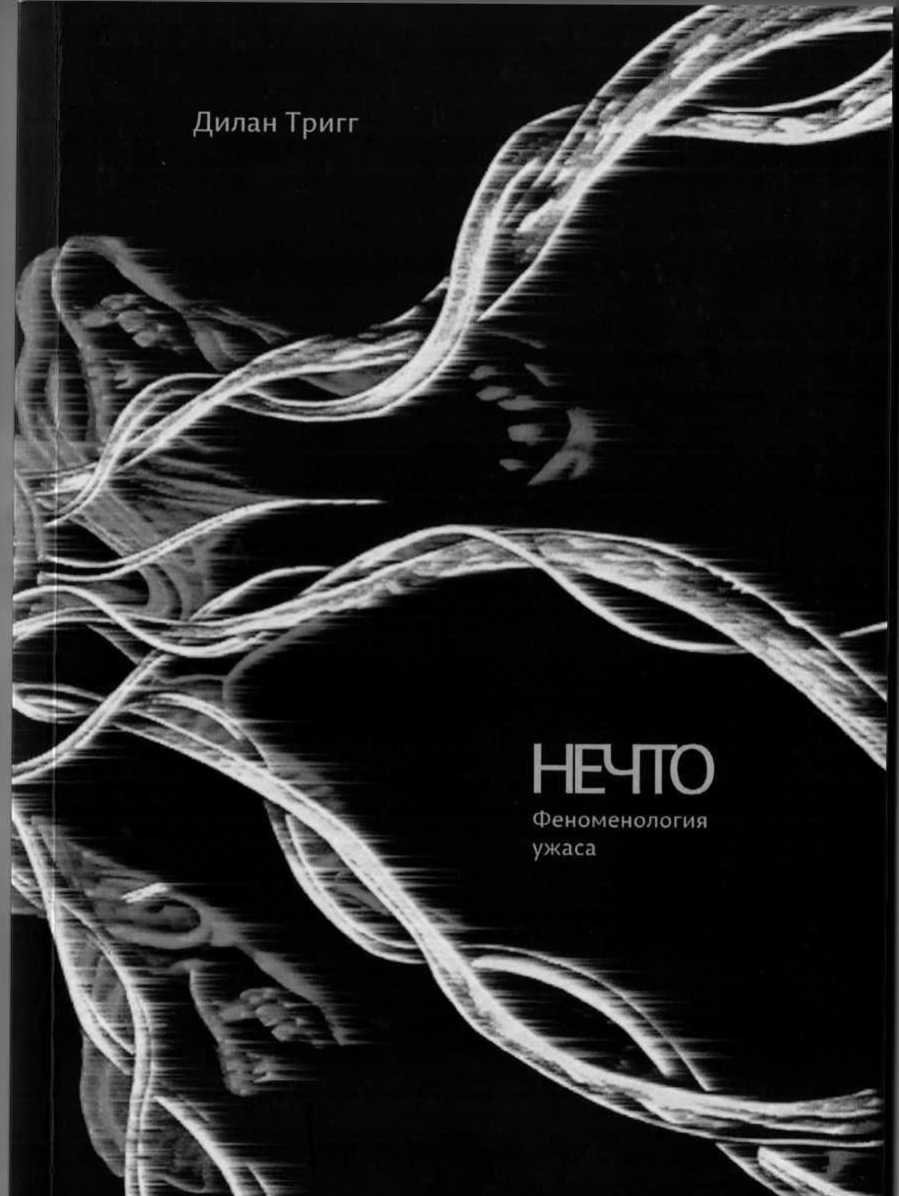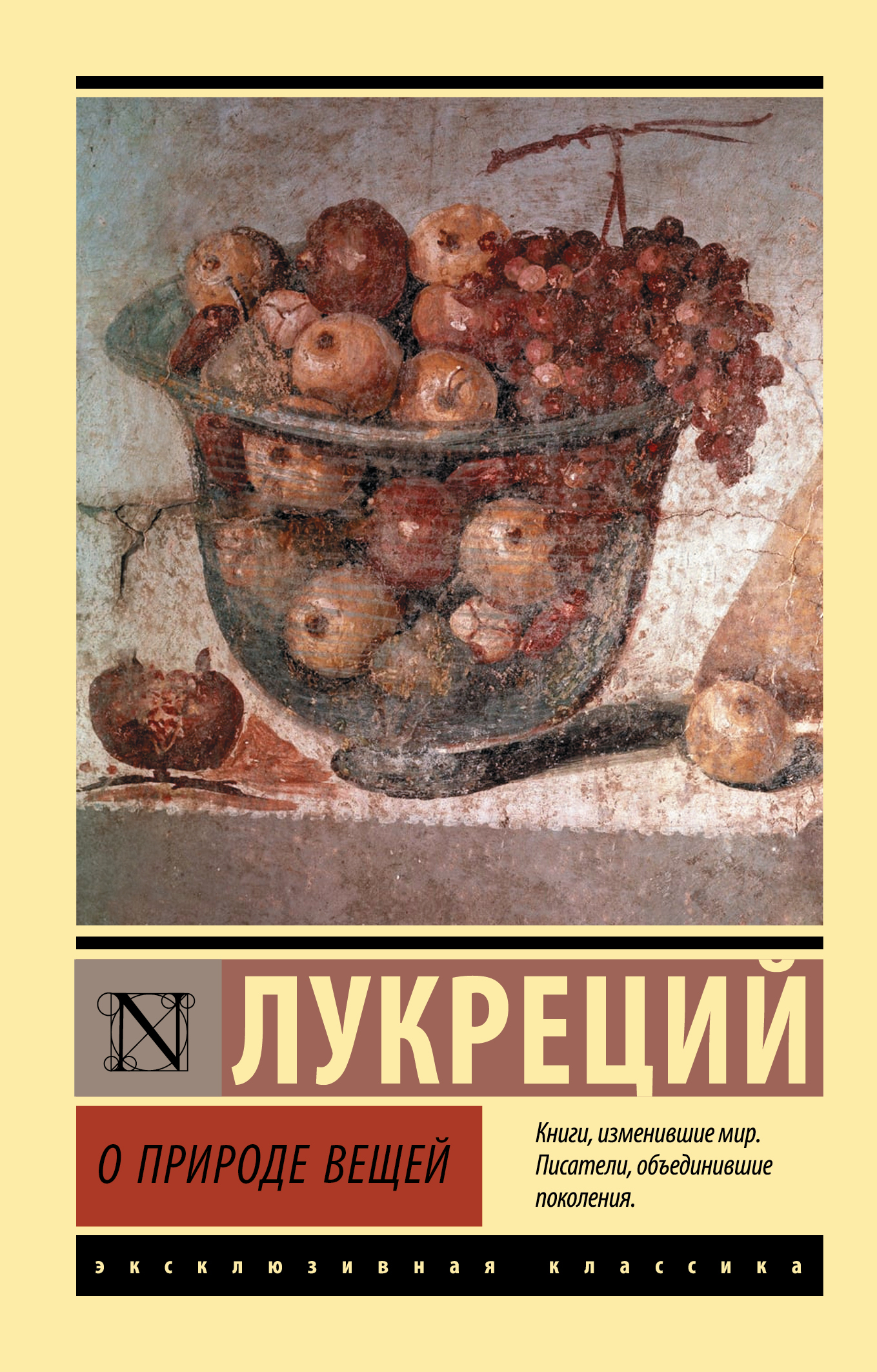пристально смотрит на себя в зеркало. Не будучи уверенным ни в том, что за зеркалом, ни в том, что перед зеркалом, он протягивает к нему руку.
Эта сцена — кинематографический аналог «Изгоя» Лавкрафта, одного из лучших образцов его прозы. Здесь тоже ужас тела становится ужасом перед своим отражением в зеркале. В рассказе уродливый монстр, слишком долго томившийся в подземелье замка, пробирается к звукам «буйного веселья», доносящимся из близлежащего строения. Когда он приближается к притягивавшему его месту, то обнаруживает, что каждый, кто его видит, пытается немедленно спастись бегством: «Кошмар не заставил себя ждать, ибо как только я вошел, глазам моим предстала ужаснейшая из сцен, какие только можно вообразить» (Лавкрафт 2014b, 270). Сначала он искренне не понимает, чем вызван этот переполох. И вот он снова один в опустевшей комнате. Тут он видит что-то невыразимо ужасающее, что Лавкрафт описывает следующим образом:
Я не в силах даже приблизительно описать, как выглядело это страшилище, сочетавшее в себе все, что нечисто, скверно, мерзко, непотребно, аморально и аномально. Это было какое-то дьявольское воплощение упадка, запустения и тлена, гниющий и разлагающийся символ извращенного откровения, чудовищное обнажение того, что милосердная земля обычно скрывает от людских глаз. Видит Бог, это было нечто не от мира сего — во всяком случае, теперь уже не от мира сего, — и тем не менее к ужасу своему, я разглядел в его изъеденных и обнажившихся до костей контурах отталкивающую и вызывающую карикатуру на человеческий облик, а в тех лохмотьях, что служили ему одеянием, — некий отдаленный намек на знатность, отчего мой ужас только усилился (271).
Медленно приходит осознание: «Глаза мои, словно заколдованные неподвижно уставившимися в них тусклыми, безжизненными зрачками, отказывались повиноваться мне и, как я ни старался, не закрывались» (272). Лавкрафт блестяще и жутко описывает возникновение отражения. Этот ужас носит не просто визуальный характер, но также является ужасом идентификации, когда зеркало одновременно возвращает [смотрящему] и его собственный взгляд, и чей-то чужой. К концу рассказа этот чудовищный обитатель замка находит подобие отдохновения в этом ужасе:
Ибо, несмотря на покой, принесенный мне забвением, я никогда не забываю о том, что я — изгой, странник в этом столетии и чужак для всех, кто пока еще жив. Мне это стало ясно — раз и навсегда — с того момента, когда я протянул руку чудовищу в огромной позолоченной раме; протянул руку — и коснулся холодной и гладкой поверхности зеркала (273).
Выходя за пределы этого экзистенциального уровня ужаса и самоидентификации, фильм Карпентера распространяется на ужас материи в более широком смысле. Такое понимание материи, как насыщенной странным и чужеродным качеством, прослеживается во всех фильмах Карпентера. Не только человеческие тела оказываются одержимыми агентностью, отличной от их собственной: [достаточно вспомнить] автомобили («Кристина», 1984), книги («В пасти безумия», 1995) или куски древесины, вынесенные прибоем («Туман», 1979). В случае с «Князем тьмы» инфекция материи сначала обретает форму в образе насекомых и только затем перемещается в человеческие тела. По мере трансформации этих артефактов они изменяют форму, раскрывая свою идентичность как всецело контингентую, и в этом процессе культивируют паразитическое отношение к человеческим телам, которые становятся их носителями.
Эта инверсия субъектно-объектных отношений означает, что принимавшееся человеком за объект — книга или автомобиль — теперь открывает иную сторону, которая более не зависит от человеческого взгляда. Во всех этих случаях материя жива. Как говорит священник, «Он живет в атоме. Он живет во всех вещах...». Не в анимистической взаимосвязи с человеческим, но анонимно и грубо. Это ужас левинасовского Il y a, ужас оно, которое отказывается раскрыть себя как Я и обнаруживается только как симптом или сон. В таком видении ужаса материя изливается за пределы плоти и, следовательно, самой субъективности. Структура реальности утрачивает свою определенность. В ключевой сцене в начале фильма профессор Байрак предлагает своим ученикам следующую мысль:
Давайте поговорим о наших верованиях и о том, что мы можем о них знать. Мы верим, что природа неизменна, а время постоянно. Материя субстанциональна, а время имеет направление. Это истина во плоти и непоколебимое основание. Мы можем не видеть ветер, но он реален. Дым, огонь, вода, свет — весьма различны! Не как камень или сталь, но они ощутимы. И мы полагаем, что время подобно стреле, ибо оно как часы: одна секунда является одной секундой для всех! Причина предшествует следствию — фрукты гниют, вода устремляется вниз по течению. Мы рождаемся, стареем и умираем. Обратный ход событий невозможен... Но все это неправда! Попрощайся с привычной реальностью, потому что наша логика коллапсирует на субатомном уровне... В призраки и тени.
Видение Карпентера, как сказал бы Байрак, представляет нам вывернутый наизнанку феноменальный мир. Это настоящий юмовский кошмар, в котором причинность реально приводит к краху законов природы. И снова ужас этой мутации связан с фигурой зеркала; не просто зеркала, которое раскрывает нашу собственную чуждость как человеческих субъектов, но также и экрана, который приманивает ужас самого космоса. Мы оставляем последние слова за профессором Байраком:
У каждой частицы есть античастица. Ее зеркальный образ. Ее негативная сторона. Может быть, этот вселенский разум обитает в зеркальном образе, а не в нашей Вселенной, как нам хотелось бы верить. Быть может, он анти-Бог, несущий тьму вместо света.
Наличие в центре Реального пустоты, именуемой нами Вещью.
Жак Лакан. Этика психоанализа (Лакан 2006, 159)
Одним поздним вечером 1951 года в парижском баре британский философ Альфред Дж. Айер вступил в спор с Мерло-Понти, Жоржем Батаем и другом Батая, физиком Жоржем Амброзино. Во время этой встречи был поднят вопрос о том, существовало ли Солнце до того, как появились люди и смогли воспринять его в опыте. По воспоминаниям Батая, Айер ответил утвердительно, недвусмысленно заявив, что Солнце, вне всякого сомнения, действительно существовало до того, как человек смог его воспринять. Батай и Мерло-Понти, напротив, не были так уверены, как это и подтверждает рассказ самого Батая: «Айер высказал очень простое суждение: „Солнце существовало до появления людей“. И у него не было никаких причин сомневаться в этом. Мерло-Понти, Амброзино и я не согласились с этим утверждением, и Амброзино ответил, что Солнце, конечно же, не существовало до этого мира. Я, в свою очередь, тоже не понимаю, как кто-то мог утверждать подобное» (Bataille 1986, 80) [25].
Этот спор не